Авангарда архитектура: 5 зданий эпохи советского авангарда — INMYROOM
5 зданий эпохи советского авангарда — INMYROOM
Тоталитарные страны любят самоутверждаться за счет масштабного строительства. Административные здания здесь становятся символом эпохи, примерно как церкви во времена античности и средневековья. Москва 20-х годов не исключение, хотя с деньгами тогда было не очень, а в архитектуре царил авангард, склоняя к минимализму и скромности.
Вместе с Айратом Багаутдиновым, основателем образовательного проекта «Москва глазами инженера», рассказываем и показываем, как это сказалось на зданиях, которые чиновники строили «для себя».
Дом Моссельпрома
Когда: 1923 год
Кто построил: Владимир Цветаев
Что здесь сейчас: жилой дом
Первый советский небоскреб, как его тогда называли в Москве, был построен еще в самом начале ленинской новой экономической политики, поэтому вышел довольно скромным и по высоте, и по сложности архитектурного решения. Небоскребом его должна была сделать центральная башня на железобетонном каркасе работы инженера Артура Лолейта.
Прославил здание, как это ни парадоксально для авангарда, декор. Панно на торцовой стене дома сделал «отец» конструктивизма в искусстве Александр Родченко вместе с женой Варварой Степановой. А «копирайтером» выступил Владимир Маяковский со знаменитым слоганом «Нигде, кроме как в Моссельпроме».
Типография и редакция «Известий»
Когда: 1927 год
Кто построил: Григорий Бархин
Что здесь сейчас: через ФГУП частично принадлежит Управделами президента, помещения сдаются в аренду
Здание главного печатного органа республики – Известий ЦИК и ВЦИК СССР – до небоскреба не дотянуло, хотя планы такие были. Архитектор Григорий Бархин (среди его работ дореволюционные Пушкинский музей и Бородинский мост) задумал для типографии башню, но попал под закон 1926 года о запрете на высотное строительство в пределах Садового кольца.
Железобетонный каркас для «Известий», как и для Моссельпрома, спроектировал Артур Лолейт. И без башни вышло весьма представительно.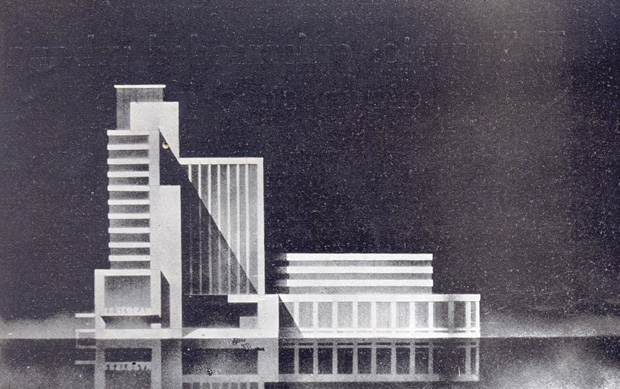 Помимо редакции здесь открылась типография (до сих пор работает, но уже не имеет никакого отношения к газете «Известия»), так что здание наполовину промышленное.
Помимо редакции здесь открылась типография (до сих пор работает, но уже не имеет никакого отношения к газете «Известия»), так что здание наполовину промышленное.
Народный комиссариат путей сообщения
Когда: 1934 год
Кто построил: Иван Фомин
Что здесь сейчас: один из офисов РЖД
Не все властные кабинеты были построены с нуля. Экономика 20-х была настолько экономной, что порой авангардный дворец приходилось строить на базе дворца классического. Так, для Народного комиссариата путей сообщения перестроили Запасный дворец, где в XVIII веке готовили и хранили продукты для царского стола.
Архитектор Иван Фомин изменил барокко до неузнаваемости: лаконичные фасады, геометричные полуколонны, а главное – узнаваемая башня с часами, за которую здание наркомата прозвали «дом-паровоз» (потому что она напоминает паровозную трубу).
Дом совета труда и обороны
Когда: 1935 год
Кто построил: Аркадий Лангман
Что здесь сейчас: Госдума РФ
Это административное здание хорошо известно до сих пор. Его строили в начале 30-х, когда на смену авангарду пришла неоклассика и ар-деко, отсюда довольно грузные монументальные формы. Так непохожие на легкий авангард, они пришлись по душе сталинской элите.
Его строили в начале 30-х, когда на смену авангарду пришла неоклассика и ар-деко, отсюда довольно грузные монументальные формы. Так непохожие на легкий авангард, они пришлись по душе сталинской элите.
Теперь здесь работают депутаты Госдумы, об их переезде из центра Москвы уже не раз объявляли, но потом все откладывалось. В ближайшие годы новым адресом парламента должны стать Нижние Мневники, но пока это только в проекте.
Дом Центросоюза
Когда: 1936 год
Кто построил: Шарль Ле Корбюзье
Что здесь сейчас: Росстат
Пожалуй, самую элегантную административную постройку советской Москвы создал Шарль Ле Корбюзье. Дом Центросоюза стал воплощением его принципов новой архитектуры: дом на столбах, свободный фасад, свободная планировка, ленточные окна, эксплуатируемая плоская кровля. Недавно перед зданием, в котором теперь работает Росстат, французскому архитектору установили памятник.
Архитектурный авангард Ленинграда
14 ноября 2016 г.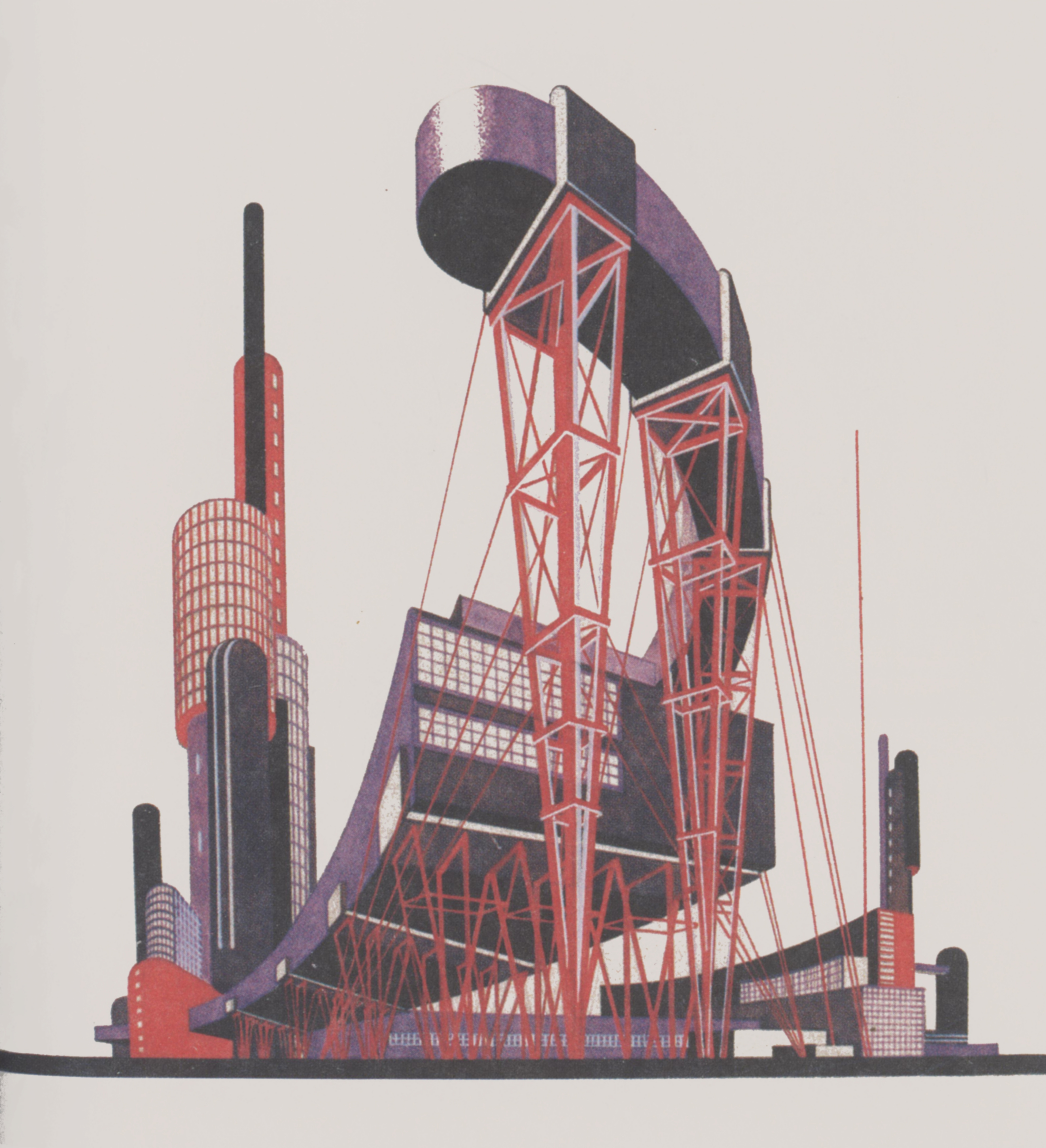
Часть 1. Архитектура русского авангарда.
«И в жизни, мы, человечество, есть опыты для будущего». Эта фраза одного из ведущих деятелей советского художественного авангарда А. Родченко. Можно понимать её как манифест, можно как пророчество. Всё одно: в этой фразе– максимальное понимание того, что мир повернулся в какую-то иную сторону, что случается новый виток истории, новый этап в судьбе человечества.
Начало ХХ века. Расцвет второй научно-промышленной революции. На фоне бурного научно-технического прогресса в России происходят небывалые по силе и необратимости изменения. Всё больше подтачивается фундамент, казалось бы, незыблемой и «вечной» классики, с её ценностями и идеями. Пушкина сбрасывают с корабля современности. Приходит революция. Она меняет не только политический строй, но в корне подрывает устоявшиеся культурные парадигмы.
Рычат автомобили, звенят трамваи, в небе повисли самолеты, дирижабли. Увеличивающийся темп жизни вдохновляет передовых людей. Появляются апологеты движения, высокого темпа жизни, рождается непоколебимая вера в прогресс. Человек начинает думать, что теперь в его силах одолеть слепые силы природы, подчинить их, поставить себе на службу.
Появляются апологеты движения, высокого темпа жизни, рождается непоколебимая вера в прогресс. Человек начинает думать, что теперь в его силах одолеть слепые силы природы, подчинить их, поставить себе на службу.
Восходит грандиозная мечта будущего.
Но будущее теперь не должно возникать естественно, согласно «законам природы». Человек берёт на себя ответственность за будущее. Он берётся его строить. Создавать время своими руками.
Пафос строительства, рационально спланированного обустройства жизни выражается в особом подходе к организации пространства. Принципиально сдвигается отношение к искусству в его связке с организованной средой. Ему теперь не место в музеях и частных галереях. Как того хотел Маяковский –«…Улицы – наши кисти, площади – наши палитры…» или Родченко – «Искусство будущего не будет украшением семейных квартир. Оно будет равно по необходимости 48-и этажным небоскрёбам, грандиозным мостам, беспроволочному телеграфу, аэронавтике, подводным судам и проч.
Молодое передовое поколение ищет новых стилеобразующих принципов, которые были бы адекватны современности. Лирическая, утончённая поэзия сменяется жёсткой ритмикой кубистской поэтики В. Маяковского. К. Малевич провозглашает правила чистых формы и цвета, помещая в «красный угол» на место иконы чёрный квадрат – возникает супрематизм. В. Кандинский констатирует исчерпанность иконографической и предметной изобразительности, утверждая возникновение абстрактного искусства.
Тот импульс, который задали ведущие художники и поэты левого искусства продолжает развитие в многочисленных творческих объединениях, где сотрудничают художники, архитекторы и скульпторы. Процесс формальных и стилевых поисков идёт в двух основных направлениях: в рамках супрематизма Малевича и конструктивизме, начало которого положил В. Татлин. Эти две концепции, собственно говоря, и заложили основы стиля художественного авангарда в целом.
Школа Малевича – УНОВИС (Утвердители нового искусства) поначалу занималась большей частью изучением цвета и формы самих по себе и их воздействием на восприятие, сохраняясь таким образом в плоскости двухмерной изобразительности. Лишь позже она вышла к объёмности и пространственной предметности. Это выразилось в создании разнообразных супрематических композиций и проектов, выполненных в аксонометрии. Одни из них – это работы самого Малевича – архитектоны и его и Л. Хидекеля планиты.
Архитектоны
Планиты
Другие – проуны, его не менее известного ученика– Л. Лисицкого.
Лисицкий, имеющий архитектурное образование, прекрасно понимал значение супрематических экспериментов Малевича для новой архитектуры. Эксперименты с формой в аксонометрии приблизили двухмерную изобразительность к пространственно-предметной среде. Архитектоны и планиты были своеобразным выходом в архитектуру и скульптуру, а Лисицкий выполнял роль своеобразного моста..png)
Более зрелое и детальное отношение к пространственной композиции происходит уже в русле конструктивизма. Ранний конструктивизм осуществляет так называемый переход «от изображения – к конструкции».
На этом этапе художники, в числе которых В. Татлин, А. Родченко, К. Медунецкий, Н Габо, А. Веснин и др. экспериментируют с пространственными конструкциями в поисках необходимых формально-эстетических принципов. За спиной у них конечно опыты Татлина – его живописные рельефы и контррельефы и знаменитый Памятник III Интернационала.
К знаковым произведениям можно отнести конструкции В. и Г. Стенбергов, модели К. Иогансена, пространственные построения Родченко, а также его знаменитый «Киоск для продажи газет и агитлитературы».
Конструкции В. и Г. Стенбергов
Модели К. Иогансена
Пространственные построения Родченко
«Киоск для продажи газет и агитлитературы»
В ходе развития и экспериментальных находок, деятельность конструктивистов выходит за рамки пространственных моделей. Начинается следующий этап – «от конструкции – к производству». Возникает производственное искусство.
Начинается следующий этап – «от конструкции – к производству». Возникает производственное искусство.
На этом этапе всё заметнее отклонение в сторону архитектуры, рост в большее пространство. Художественные поиски конструктивистов всё больше сближаются с научно-технической и промышленной сферами. Тут на руку идёт ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры), где методически разрабатываются основы и принципы научного понимания искусства и где формируется новый тип творческого человека –«художника-учёного». Как учёный, он бежит вкусовщины (нравится-не нравится), желая найти прочный, научно обоснованный взгляд на задачу и сущность искусства.
И тут вот что происходит. В то время были в ходу идеи синтетического искусства. То есть, когда один жанр ищет для себя оснований в другом. Если традиционно архитектура в качестве принципа декорирования использовала элементы живописи, то теперь происходит наоборот: изобразительность ищет оснований в архитектонике, в чистой пластике элементарных фигур, в характерном для архитектуры использовании масс и объёмов как таковых в их соотношении.
Сами конструктивисты понимают свои художественные находки не как стиль, но исключительно как метод (что не мешает им быть именно стилем).
Эстетизируются сама конструкция, голое инженерно-техническое изделие. Они входят в плоть формального метода конструктивистов.
Впоследствии конструктивизм отделяется от общего движения производственного искусства, став вполне самостоятельным творческим течением, которое включило в себя затем и само производственное искусство.
Главным учебным заведением художественного авангарда был ВХУТЕМАС(Высшие художественные мастерские). И, можно сказать, именно архитектурные факультеты задают творческий тон всему учебному заведению. Здесь в разное время работала плеяда выдающихся архитекторов, в числе которых И.
Пока мы говорили в основном о Москве. Считается, что именно она колыбель художественного авангарда, несмотря на то, что Петербург, как оплот революций и как недавняя столица империи, имел не меньший творческий потенциал. Тем не менее, и даже потому, что ленинградский авангард остался явлением провинциальным, он представляется ещё не столь изученной и раскрытой темой. Петербургский авангард тем ещё примечателен, что ему пришлось вписаться в грандиозное архитектурное наследие прошлого. По этой же причине, новая архитектура оставалась недостаточно оценённой.
В Петербурге альма-матер всех передовых архитекторов – ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт). Здесь работали и преподавали Л. Бенуа, В. Гольфрейх, И. Фомин, А. Белогруд, В. Щуко и др., а его выпускники (1922-1930 гг.) и создали ленинградский архитектурный авангард, о котором и пойдёт речь в следующих статьях.
Архитектура Юга России эпохи авангарда :: Книги :: Архсовет рекомендует
Мария Аметованаучный сотрудник Музея архитектуры им. Щусева
Книга Артура Токарева открывает малоизученный пласт раннесоветской архитектуры огромного региона — Юга России, к которому он относит Дон, Кубань, черноморского побережья Кавказа, Кавминводы и Крым.
Книга: Архитектура Юга России эпохи авангарда. А.Г. Токарев. Ростов-на-Дону. 2016
Наследие Юга России разнообразно и самобытно, оно оставлено и столичными архитекторами, и представителями локальных архитектурных школ. Здесь нам встречаются курорты и совхозы-агрогорода, заводы-гиганты и рабочие поселки, госбанки и клубы, больницы и образовательные учреждения. Уникальны примеры жилой архитектуры, несущей характерный «южный» отпечаток, среди них — дома-кварталы Ростова-на-Дону, таганрогский дом-кольцо с общими балконами-галереями в круглом дворе, ардекошный дом правительства Крымской АССР в Симферополе, модернистский особняк семьи архитектора Мирона Мержанова в Кисловодске. Стилевым дефинициям, стилистической неоднородности Токарев уделяет как раз самое большое внимание.
Здесь нам встречаются курорты и совхозы-агрогорода, заводы-гиганты и рабочие поселки, госбанки и клубы, больницы и образовательные учреждения. Уникальны примеры жилой архитектуры, несущей характерный «южный» отпечаток, среди них — дома-кварталы Ростова-на-Дону, таганрогский дом-кольцо с общими балконами-галереями в круглом дворе, ардекошный дом правительства Крымской АССР в Симферополе, модернистский особняк семьи архитектора Мирона Мержанова в Кисловодске. Стилевым дефинициям, стилистической неоднородности Токарев уделяет как раз самое большое внимание.
«Архитектура Юга России эпохи авангарда» — первая попытка систематизации архитектуры 1920–1930-х гг. цивилизационно близких друг другу регионов — Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и района Кавказские Минеральные Воды Ставропольского края. Монография решена в форме пообъектного изложения материала. Объекты объединены в главы по принципу административных территорий и снабжены историческими и современными иллюстрациями, библиографией, а также аннотациями на английском языке. Указаны современные адреса объектов, благодаря чему с ними легко ознакомится в реальности (таких большинство, исключение составляют памятники, разрушенные в ВОВ или значительно перестроенные). Подобная структура по мысли автора должна оказать помощь государственным структурам, ответственным за выявление объектов культурного наследия и постановки их на охрану. В связи с этим исследование проводилось в тесном взаимодействии с DOCOMOMO Россия и Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева. Ряд малоизвестных объектов, удаленных от краевых и областных центров и сохраняющих свою функцию, удивляет своей первозданной сохранностью. И напротив, часть хрестоматийных памятников мирового уровня находится в катастрофическом состоянии.
Указаны современные адреса объектов, благодаря чему с ними легко ознакомится в реальности (таких большинство, исключение составляют памятники, разрушенные в ВОВ или значительно перестроенные). Подобная структура по мысли автора должна оказать помощь государственным структурам, ответственным за выявление объектов культурного наследия и постановки их на охрану. В связи с этим исследование проводилось в тесном взаимодействии с DOCOMOMO Россия и Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева. Ряд малоизвестных объектов, удаленных от краевых и областных центров и сохраняющих свою функцию, удивляет своей первозданной сохранностью. И напротив, часть хрестоматийных памятников мирового уровня находится в катастрофическом состоянии.
Автор книги — доцент Южного федерального университета А.Г. Токарев. Координатором и инициатором издания выступил И.А. Бычков. Финансирование проекта (организация экспедиций, работа в архивах и музеях, фотофиксации) в связи с экономическими трудностями вуза полностью легло на их плечи. В большей степени на творческом энтузиазме работали дизайнеры книги И.С. Кожухарова и Ю.С. Вялкина, фотограф Е.А. Денисюк и редактор В.В. Дашевская.
В большей степени на творческом энтузиазме работали дизайнеры книги И.С. Кожухарова и Ю.С. Вялкина, фотограф Е.А. Денисюк и редактор В.В. Дашевская.
Архитектура слова. Символические трансформации советского архитектурного авангарда в публичной риторике
Mikhail Ilchenko. Architecture of the Word: Symbolic Transformations of the Soviet Architectural Avant-Garde in Public Rhetoric
* * *
…Я, к сожалению, не являюсь одним из его страстных поклонников. Я когда-то работал с ним, и я думаю, что знаю, как он перевертывает. Я его рассматриваю, как опасного шута, но одного из наиболее дальновидных публицистов. Я хочу в союзе с другими архитекторами побороть его влияние, которое я считаю вредным. Но так как надо признать, что ему дует попутный ветер, чтобы опрокинуть этого идола, нужно иметь хорошо обоснованные аргументы [Письмо 1957].
Этот фрагмент письма женевского архитектора Мориса Брайнарда советскому коллеге Николаю Колли посвящен Ле Корбюзье и, пожалуй, как нельзя точно демонстрирует основную претензию, традиционно предъявляемую деятельности французского градостроителя. В самом простом виде она формулируется так: Ле Корбюзье говорил больше, чем строил, и оттого основная часть его наследия — это книги и бесконечные слова, нежели реально воплощенные проекты. Именно поэтому с легкой долей пренебрежения Морис Брайнард признает в Ле Корбюзье «дальновидного публициста», но никак не серьезного архитектора-новатора.
В самом простом виде она формулируется так: Ле Корбюзье говорил больше, чем строил, и оттого основная часть его наследия — это книги и бесконечные слова, нежели реально воплощенные проекты. Именно поэтому с легкой долей пренебрежения Морис Брайнард признает в Ле Корбюзье «дальновидного публициста», но никак не серьезного архитектора-новатора.
Примечательно, что предмет язвительной критики для одних становился несомненным достоинством для других. В своей статье 1956 года, посвященной современной французской архитектуре, Зигфрид Гиедион отмечал: «Влияние Ле Корбюзье объясняется его способностью придавать вещам предельную простоту. Он доводит задачи до точности и краткости титров в кино, чему, безусловно, помогает точный и ясный, определенный французский язык» [Выписки: 129(6)].
К Ле Корбюзье можно относиться по-разному, но невозможно не признать очевидного факта: то, что архитектура авангарда до сих пор остается предметом публичных обсуждений и живого интереса широкой аудитории, — в том числе и его заслуга. Будучи одним из творцов новой архитектуры, Ле Корбюзье прекрасно понимал, что она не просто зависима от слова, но во многом им созидаема.
Будучи одним из творцов новой архитектуры, Ле Корбюзье прекрасно понимал, что она не просто зависима от слова, но во многом им созидаема.
Опыт всего последующего столетия отчетливо демонстрирует: архитектура авангарда и слово неотделимы друг от друга, а способ говорения об авангарде столь же важен для его природы, как сами архитектурные проекты и сооружения.
Пафос и амбиции новой модернистской архитектуры определялись не столько масштабами строительства и радикальными реформаторскими задумками, сколько особой социальной миссией, изначальной претензией на образ будущего и стремлением это будущее подчинить. Идея и образ в такой ситуации демонстрировали не меньшую значимость, чем реальный проект и конкретное техническое решение, а потому слово оказывалось способным достроить то, что не удавалось достроить с помощью стекла и бетона. Ле Корбюзье был одним из первых, кто прочувствовал глубокую связь между новой архитектурой и способом ее вербальной репрезентации, и потому пытался использовать этот потенциал максимально полно.
Слово оказывалось не только средством эффектного изображения архитектурных утопий будущего, что так или иначе было характерно и для предшествующих эпох, но превращалось в инструмент социального продвижения градостроительных идей. Новая архитектура подчеркивала свой особый интеллектуальный посыл, но, прежде всего, она апеллировала к массам. На фоне изящества теоретических обоснований она должна была оставаться доступной и понятной. Архитектурные новшества нужно было не только ярко репрезентировать, но и доходчиво объяснять. Поэтому успеха добивались те, кто вовремя это понял и усвоил лучше остальных. Эстетика нидерландских авангардистов-новаторов из группы «Стиль» («De Stijl») зарождалась и утверждала себя на страницах одноименного журнала, Баухаус сделал архитектурную периодику частью собственной идеологии, а литературные фантазии и утопические проекты русского и советского авангарда имели для архитектуры не меньшее значение, чем его реализованные замыслы.
В сущности, вся архитектура первого межвоенного десятилетия — это бесчисленные воззвания, манифесты, обращения, программы, непрекращающиеся дискуссии на страницах газет и журналов, каталоги открывающихся одной за другой художественных выставок. Публичные обсуждения и репрезентации теперь не фон и не приложение, а условие и новая форма существования мирового архитектурного сообщества [Cohen 2012: 190—199]. Природа архитектуры как социального института кардинально менялась вместе с ее социальной функцией, превращая градостроительные проекты в инструмент социализации и глобальной ретрансляции новых смыслов, идей и стандартов жизни. Неизбежный выход архитектурных дискуссий из узкопрофессионального поля в публичное пространство стал нормой. Публичный разговор о современной архитектуре легитимировал ее образ и социальные цели, помогал утверждать новые представления о городе, пространстве и общественных институтах.
Публичные обсуждения и репрезентации теперь не фон и не приложение, а условие и новая форма существования мирового архитектурного сообщества [Cohen 2012: 190—199]. Природа архитектуры как социального института кардинально менялась вместе с ее социальной функцией, превращая градостроительные проекты в инструмент социализации и глобальной ретрансляции новых смыслов, идей и стандартов жизни. Неизбежный выход архитектурных дискуссий из узкопрофессионального поля в публичное пространство стал нормой. Публичный разговор о современной архитектуре легитимировал ее образ и социальные цели, помогал утверждать новые представления о городе, пространстве и общественных институтах.
Особое символическое значение архитектура модернизма приобретала в тех случаях, когда оказывалась средством репрезентации новых государственных идеологий. Для многих европейских государств, образовавшихся по итогам Первой мировой войны, — Чехословакии, Польской Республики, Литвы, Королевства Югославии — авангардные архитектурные проекты выступали эффектным способом обозначить новые национальные приоритеты и претензию на современность [Architecture of Independence 2018; Ильченко 2020]. В таком контексте архитектура сама по себе превращалась в риторическую фигуру. Масштабные градостроительные задумки были призваны проецировать новые ценности, устремления и общественные идеалы и, как следствие, изначально требовали публичного разговора и обсуждения.
В таком контексте архитектура сама по себе превращалась в риторическую фигуру. Масштабные градостроительные задумки были призваны проецировать новые ценности, устремления и общественные идеалы и, как следствие, изначально требовали публичного разговора и обсуждения.
В условиях строительства нового советского государства все это имело особенно острое звучание. Архитектурные проекты советских авангардистов должны были демонстрировать радикальный разрыв с прошлым, олицетворять триумфальное преодоление настоящего и рисовать идеальную картину будущего. Уже в силу исторических условий новой советской архитектуре было предначертано стать метафорой эпохи, что изначально определяло особую миссию слова в формировании ее образа. Первые советские архитектурные эксперименты оказались настолько тесно привязаны к особенностям публичной репрезентации, настолько зависимы от нее, что вся дальнейшая логика развития советского градостроительства может быть удачно прослежена сквозь призму изменений публичной риторики. Пример архитектурного авангарда, в этом смысле, особенно показателен, поскольку позволяет увидеть, что такие риторические трансформации продолжаются до сих пор и оказывают влияние на особенности восприятия советской архитектуры в целом.
Пример архитектурного авангарда, в этом смысле, особенно показателен, поскольку позволяет увидеть, что такие риторические трансформации продолжаются до сих пор и оказывают влияние на особенности восприятия советской архитектуры в целом.
Утверждение «новой советской архитектуры»
Трудно понять природу и ключевой посыл архитектуры советского авангарда 1920-х годов, рассматривая ее вне той стихии слова, которая неизменно сопровождала все крупные градостроительные проекты в стране на протяжении целого десятилетия. Ни до ни после об архитектуре в России не писали и не говорили так много, ни до ни после слово и риторика не играли такой существенной роли для градостроительной политики страны. Десятки новых архитектурных изданий, непрекращающиеся дискуссии и обсуждения проектов в прессе, выступления архитектурных звезд в роли новых публичных интеллектуалов и бесконечные призывы к созиданию новой «социалистической архитектуры». Именно из этого произрастала «новая советская архитектура», и во многом именно это формировало ее образ как за рубежом, так и внутри страны.
К середине 1920-х годов для широкой европейской аудитории современная советская архитектура — абсолютная загадка и своего рода мифологема. Ее образ складывается из обрывочных знаний о происходящем в Советской России, рассказах о таинственных экспериментах русских конструктивистов и из самого предвкушения масштабных переустройств в стране «победившей революции» [Cooke 1990: 9—48; The Avant-Garde: Russian Architecture in the Twenties 1992]. Вместе с участием советских архитекторов и художников в крупных международных выставках, как, например, в Парижской выставке 1925 года, этот интерес лишь усиливается, но представления о том, что же все-таки являет собой архитектура новой Советской России, у зарубежной аудитории до сих пор нет.
В 1924 году один из идеологов Баухауза, Ласло Мохой-Надь, пишет письмо Элю Лисицкому, где среди прочего просит коллегу прислать фотографии хотя бы нескольких образцов новой русской архитектуры для последующей публикации в специальном томе «Интернациональная архитектура» и при этом, как бы заранее предвидя сложность задачи, оговаривается: «.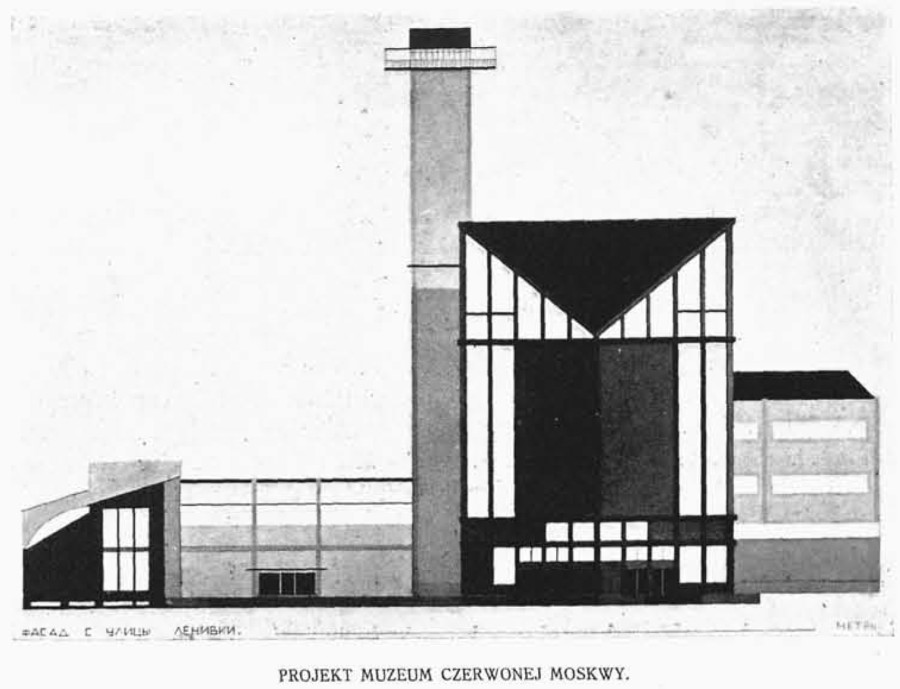 ..если ничего другого не найдется, мы напечатаем башню Татлина» [Ласло Мохой-Надь и русский авангард 2006: 95]. Со схожей просьбой двумя годами позже Эрих Мендельсон обращается к советскому коллеге Леониду Веснину: «…мне необходимы фотографии новых русских построек. Я знаю, что именно вы мне можете в этом отношении лучше всего помочь, и поэтому очень вас прошу выслать мне фотографии тех построек, которые вы считаете современными…» [Письмо Э. Мендельсона Л.А. Веснину].
..если ничего другого не найдется, мы напечатаем башню Татлина» [Ласло Мохой-Надь и русский авангард 2006: 95]. Со схожей просьбой двумя годами позже Эрих Мендельсон обращается к советскому коллеге Леониду Веснину: «…мне необходимы фотографии новых русских построек. Я знаю, что именно вы мне можете в этом отношении лучше всего помочь, и поэтому очень вас прошу выслать мне фотографии тех построек, которые вы считаете современными…» [Письмо Э. Мендельсона Л.А. Веснину].
О новой советской архитектуре за рубежом говорят все чаще, ее обсуждают, она превращается в предмет особого интереса, но, в сущности, ее никто не видел. Зарубежному читателю «современная советская архитектура» доступна исключительно в словах, которые и формируют ее образ, столь привлекательный и вдохновляющий для молодого поколения европейских архитекторов. Манифесты, переводы статей, дискуссии на страницах журналов — в таком виде советская архитектура впервые переступает через границы и постепенно закрепляется в сознании европейской публики. Многие зарубежные авторы пытаются проецировать на нее собственные стремления и надежды, в одних случаях видя в советских градостроительных экспериментах романтический революционный порыв к социализму, в других — особый опыт модернизации; так, например, Теодор Драйзер усматривает в Чите, Владикавказе и Перми будущих конкурентов Чикаго (см.: [Хэзерли 2021]).
Многие зарубежные авторы пытаются проецировать на нее собственные стремления и надежды, в одних случаях видя в советских градостроительных экспериментах романтический революционный порыв к социализму, в других — особый опыт модернизации; так, например, Теодор Драйзер усматривает в Чите, Владикавказе и Перми будущих конкурентов Чикаго (см.: [Хэзерли 2021]).
Впрочем, и в самом Советском Союзе к середине 1920-х годов «новая архитектура» — скорее словесный конструкт, фантазия и желаемый образ, нежели реальные сооружения. отдельные воплощенные в жизнь проекты пока еще далеки от того, чтобы радикально менять городскую среду и «кристаллизовать социалистический быт» [Современная архитектура 1926: 15]. Крупные стройки в городах только постепенно начинают разворачиваться, бóльшая часть проектов находится в разработке, многие из них навсегда останутся на бумаге (см.: [Нендза-Щикониовска 2021]). Эту ситуацию красноречиво характеризуют выводы, сделанные одним из идеологов конструктивизма Моисеем Гинзбургом в 1926 году по результатам обзора достижений нового градостроительства в различных странах. В статье «Международный фронт современной архитектуры» Гинзбург заключает:
В статье «Международный фронт современной архитектуры» Гинзбург заключает:
Первое отличие, бросающееся в глаза между достижениями наших заграничных товарищей и нашими, — то, что там передовой фронт, хотя и не столь значительный количественно, занял все же прочное место в реальном строительстве. Чрезвычайно многое из того, что замышляется заграничными архитекторами, уже осуществлено, и мы можем это демонстрировать не проектами, а фотографиями с натуры <…> Полезно увидеть, что современные достижения, осуществленные в действительности, во много раз превосходят по своей выразительности и остроте восприятия самые лучшие из еще не осуществленных проектов. Это чрезвычайно полезный и убедительный урок <…> И он еще более подкрепляется теми немногими, к сожалению, опытами, которые проделаны у нас в Советской России [Гинзбург 1926: 41—46].
Новая советская архитектура не имела в своем распоряжении достаточного объема реализованных проектов, который соответствовал бы амбициозности и масштабу ее задач. Но зато за короткий период она сумела сформировать свой собственный язык и выстроить самостоятельный и цельный нарратив. Лучшее подтверждение тому — журнал, в котором Гинзбург опубликовал свой материал и редактором которого одновременно являлся.
Но зато за короткий период она сумела сформировать свой собственный язык и выстроить самостоятельный и цельный нарратив. Лучшее подтверждение тому — журнал, в котором Гинзбург опубликовал свой материал и редактором которого одновременно являлся.
Вместе с другими новыми изданиями основанный в 1926 году журнал «Современная архитектура» выступал не просто в роли рупора советского градостроительства, но непосредственно участвовал в формировании его образа, определяя сам характер публичного восприятия новой городской реальности. Осознавая медленный темп изменений в реальной практике, Гинзбург и его коллеги словно бы компенсировали эту нехватку интенсивностью и эмоциональностью заряда дискуссий. Первый же номер журнала открывался декларациями и призывами распространять новое архитектурное знание и использовать его как инструмент трансформации общества. Журнал, ориентированный на профессиональное сообщество и призванный обсуждать весьма специфические вопросы, на деле апеллировал к чему-то большему. За лозунгами о внедрении новых методов архитектурного мышления прочитывались призывы строить новое общество и нового человека. «Новая советская архитектура» оказывалась своеобразной метафорой будущего идеального социалистического общества. «Прогресс», «будущее», «движение», «революционность», «прорыв» — именно в этих категориях новая архитектура закреплялась в сознании широкой аудитории. Идеологи новых авангардных течений прекрасно чувствовали это и стремились сделать язык архитектуры максимально доступным, понятным и всеохватным. Поэтому даже если бы в СССР не было построено ни одного нового здания, «новая архитектура» все равно бы стала неотъемлемой составляющей советской реальности.
За лозунгами о внедрении новых методов архитектурного мышления прочитывались призывы строить новое общество и нового человека. «Новая советская архитектура» оказывалась своеобразной метафорой будущего идеального социалистического общества. «Прогресс», «будущее», «движение», «революционность», «прорыв» — именно в этих категориях новая архитектура закреплялась в сознании широкой аудитории. Идеологи новых авангардных течений прекрасно чувствовали это и стремились сделать язык архитектуры максимально доступным, понятным и всеохватным. Поэтому даже если бы в СССР не было построено ни одного нового здания, «новая архитектура» все равно бы стала неотъемлемой составляющей советской реальности.
Язык служил не только средством пропаганды и механизмом продвижения, но, по сути, и способом символического конструирования архитектурного авангарда. Дискуссии об архитектуре будущего и новых городах ко второй половине 1920-х годов оказались настолько интенсивными, что породили особый жанр — литературно-публицистические описания проектов идеального советского города, в которых реальные градостроительные разработки перемешивались с художественными образами и фантазиями их авторов (см.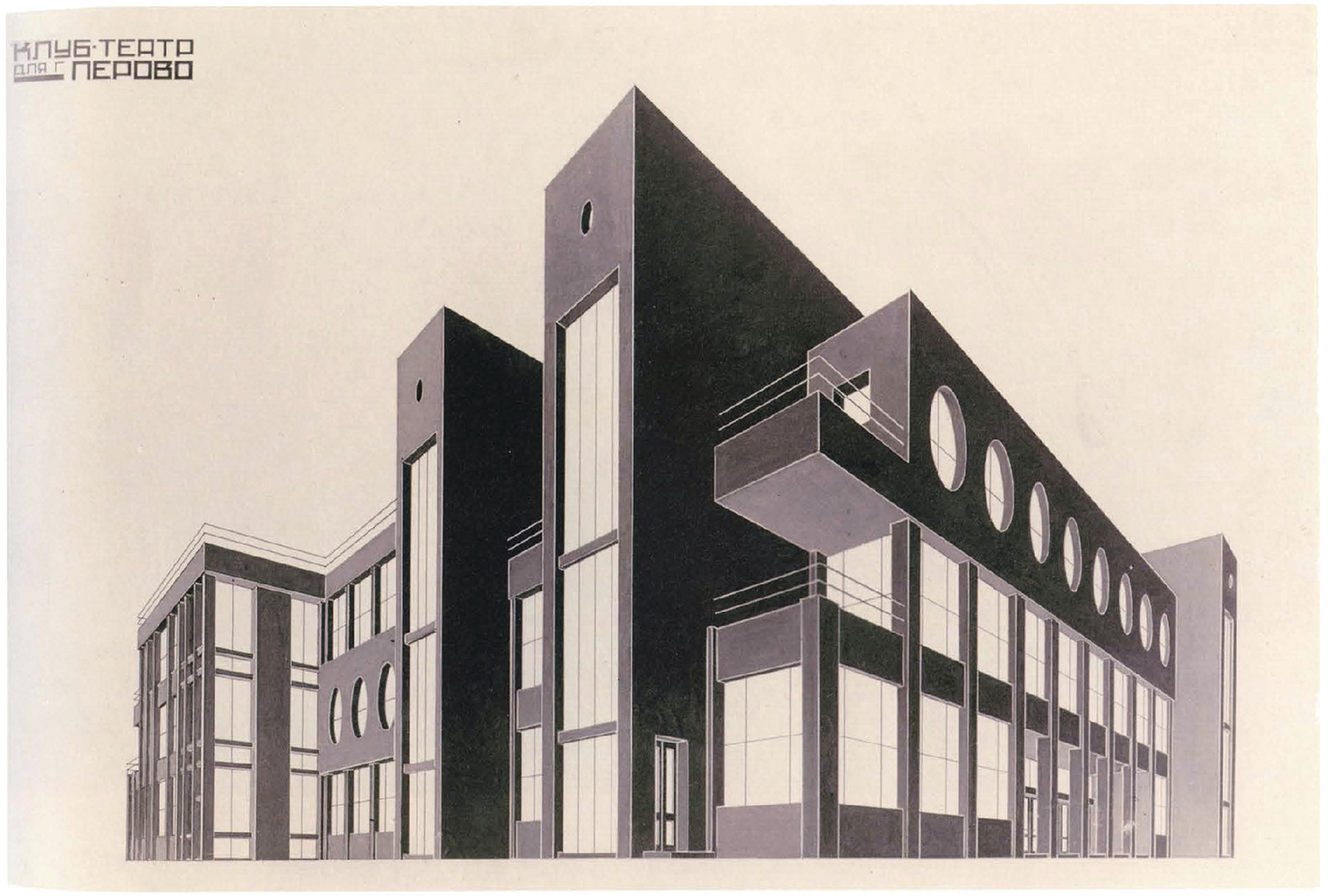 , например: [Лопатин 1925; Злынка 1926; Пыжов 1929; Тимофеев 2021]). Эти наполовину вымышленные и подчас причудливые описания обнаруживали в себе особый эффект — в постоянной циркуляции слов и образов проявлялся своеобразный эффект заговаривания, постепенного закрепления в сознании контуров еще не построенных городов и еще не существующей архитектуры. Полуфантастическое описание города будущего нередко становилось своего рода дополнением к его реальному градостроительному проекту. «Теперь, когда мы знаем план Запорожья, легко себе представить весь город таким, каким он станет через тридцать лет» [Хаустов 1930: 20]. Так, архитектор Павел Хаустов, один из создателей нового большого Запорожья, плавно переходил в своем эссе от разбора плана зеленого «города-сада» к описанию его будущего облика: «Мы входим в город. Он не похож на Москву. Он не похож на Нью-Йорк. Он похож сразу на парк и на фабрику. прямоугольные, сплошь застекленные здания как-будто освещаются зелеными кострами деревьев. Небоскребов нет.
, например: [Лопатин 1925; Злынка 1926; Пыжов 1929; Тимофеев 2021]). Эти наполовину вымышленные и подчас причудливые описания обнаруживали в себе особый эффект — в постоянной циркуляции слов и образов проявлялся своеобразный эффект заговаривания, постепенного закрепления в сознании контуров еще не построенных городов и еще не существующей архитектуры. Полуфантастическое описание города будущего нередко становилось своего рода дополнением к его реальному градостроительному проекту. «Теперь, когда мы знаем план Запорожья, легко себе представить весь город таким, каким он станет через тридцать лет» [Хаустов 1930: 20]. Так, архитектор Павел Хаустов, один из создателей нового большого Запорожья, плавно переходил в своем эссе от разбора плана зеленого «города-сада» к описанию его будущего облика: «Мы входим в город. Он не похож на Москву. Он не похож на Нью-Йорк. Он похож сразу на парк и на фабрику. прямоугольные, сплошь застекленные здания как-будто освещаются зелеными кострами деревьев. Небоскребов нет. Дома не выше трех-четырех этажей» [Там же: 26].
Дома не выше трех-четырех этажей» [Там же: 26].
Грань между реальностью и вымыслом оказывалась настолько условной, что порой было трудно понять, идет ли речь об уже существующем городе или только лишь задумке. Советские авторы, публицисты и профессиональные архитекторы все чаще начинали описывать то, чего нет. Поселения, которые в реальности находились либо на начальной стадии строительства, либо вовсе лишь намечались в проекте, нередко подавались на страницах печати как уже существующие и функционирующие городские организмы (см., например: [СССР на стройке 1932; Вiкторов 1930]). И во многом именно это определяло характер их восприятия и пространственный образ.
Слово одновременно конструировало и легитимировало. Именно облечение в слово закрепляло и утверждало в общественном сознании новые постройки и сооружения. Город или здание, описанные в статьях, эссе или воспетые в стихах, словно бы получали окончательное символическое право на существование. Так, в специальном юбилейном выпуске газеты «За уральский блюминг» за 1933 год, посвященном пуску завода Уральского тяжелого машиностроения в Свердловске, целая полоса отводилась восторженным описаниям нового образцового социалистического города. К тому моменту соцгород Уралмаша не имел ни четких контуров, ни ясного архитектурного облика, ни отлаженной инфраструктуры. Зато у него уже были своя история, летопись, свои поэты и даже первые художественные произведения [За уральский блюминг 1933]. Город еще не был достроен, но он уже был отражен в слове, и это делало его полноценной составляющей новой градостроительной реальности.
Так, в специальном юбилейном выпуске газеты «За уральский блюминг» за 1933 год, посвященном пуску завода Уральского тяжелого машиностроения в Свердловске, целая полоса отводилась восторженным описаниям нового образцового социалистического города. К тому моменту соцгород Уралмаша не имел ни четких контуров, ни ясного архитектурного облика, ни отлаженной инфраструктуры. Зато у него уже были своя история, летопись, свои поэты и даже первые художественные произведения [За уральский блюминг 1933]. Город еще не был достроен, но он уже был отражен в слове, и это делало его полноценной составляющей новой градостроительной реальности.
Архитектура умолчания
В этом смысле, потеря слова и возможности публичной репрезентации уже сами по себе должны были означать для архитектуры авангарда символическую смерть. С 1932 года советская конструктивистская архитектура вместе со всем авангардным искусством попадает под оглушительный огонь критики. Советских архитекторов-авангардистов обвиняют в формализме, следовании принципам буржуазной условности и оторванности от социалистической реальности. Конструктивистские стройки сворачиваются одна за другой, авангардистские журналы уступают место рупорам архитектурного «социалистического реализма», на смену творческим архитектурным объединениям приходит единая централизованная структура Союза архитекторов. Архитектурный авангард оказывается в опале. Но даже в условиях такой тотальной обструкции он пока еще сохраняет за собой определенные символические контуры и главное — право быть названным.
Конструктивистские стройки сворачиваются одна за другой, авангардистские журналы уступают место рупорам архитектурного «социалистического реализма», на смену творческим архитектурным объединениям приходит единая централизованная структура Союза архитекторов. Архитектурный авангард оказывается в опале. Но даже в условиях такой тотальной обструкции он пока еще сохраняет за собой определенные символические контуры и главное — право быть названным.
Превращение советского авангарда сначала в фигуру отторжения, а затем в фигуру умолчания до сих пор остается едва ли не самым недооцененным и крайне слабо исследованным периодом его существования. Условия критики и неприятия модернизма в каждом случае и в каждом локальном контексте были разными: в нацистской Германии он был объявлен частью «дегенеративного искусства», в послевоенной Западной Европе его обличали в технократизме и утопизме, в странах соцлагеря — в погоне за сиюминутной модой межвоенного периода. Однако новая символическая функция модернистской архитектуры везде оказывалась схожей. Теперь она репрезентировала образ отторгаемого чуждого мира, тем самым помогая пришедшим к власти политическим элитам утвердить и легитимировать новые ценности. Эстетика и принципы архитектуры модернизма оказывались табуированными, но ее присутствие в публичной риторике по-прежнему сохранялось: либо на уровне скрытого умолчания, либо на уровне демонстративного объекта порицания. Этот образ отчетливо прорисовывался за многочисленными фельетонами, карикатурами, плакатами, сатирическими изображениями и критическими статьями, активно публиковавшимися в архитектурных и художественных журналах, местных и национальных газетах. Образ провозвестника современности и символа эпохи сменяло вытеснение на периферию и маргинальное состояние.
Теперь она репрезентировала образ отторгаемого чуждого мира, тем самым помогая пришедшим к власти политическим элитам утвердить и легитимировать новые ценности. Эстетика и принципы архитектуры модернизма оказывались табуированными, но ее присутствие в публичной риторике по-прежнему сохранялось: либо на уровне скрытого умолчания, либо на уровне демонстративного объекта порицания. Этот образ отчетливо прорисовывался за многочисленными фельетонами, карикатурами, плакатами, сатирическими изображениями и критическими статьями, активно публиковавшимися в архитектурных и художественных журналах, местных и национальных газетах. Образ провозвестника современности и символа эпохи сменяло вытеснение на периферию и маргинальное состояние.
Так, в Советском Союзе на отторжении авангарда утверждал себя новый сталинский архитектурный стиль. Авангардная архитектура объявлялась «коробочной», «серой» и «уродливой», превращаясь в глубоко порицаемое явление и нарочитый образец того, как строить не нужно. В карикатуре, изображенной на страницах сатирического журнала «Крокодил» 1949 года, советские архитекторы, указывая в ходе вымышленного диалога на один из символов советского архитектурного авангарда, успокаивали классика русского зодчества XVIII века Василия Баженова: «Василий Иванович, не огорчайтесь! Таких зданий, как клуб имени Русакова, в Москве не будет. Видите, мы перестроились и строим сейчас хорошие дома» [«Крокодил» 1949: 8]. Авангардная архитектура была отторгнута, ее принципы отвергнуты, но о ней все еще продолжали говорить и даже дискутировать, пусть и в обличительном ключе.
В карикатуре, изображенной на страницах сатирического журнала «Крокодил» 1949 года, советские архитекторы, указывая в ходе вымышленного диалога на один из символов советского архитектурного авангарда, успокаивали классика русского зодчества XVIII века Василия Баженова: «Василий Иванович, не огорчайтесь! Таких зданий, как клуб имени Русакова, в Москве не будет. Видите, мы перестроились и строим сейчас хорошие дома» [«Крокодил» 1949: 8]. Авангардная архитектура была отторгнута, ее принципы отвергнуты, но о ней все еще продолжали говорить и даже дискутировать, пусть и в обличительном ключе.
Вместе с очередной сменой градостроительной политики в конце 1950-х годов и борьбой с «архитектурными излишествами» авангард постепенно уходит в тень и перестает быть предметом громких публичных обсуждений. Продолжение прежней ожесточенной критики на фоне очередного витка массового жилищного строительства эпохи Хрущева казалось малоэффективным и даже нелепым: над новыми жилыми районами, массово возводимыми по всей стране, буквально витал дух функционализма. Однако о реабилитации авангарда также не могло идти речи: он по-прежнему олицетворял «формалистические извращения» [Власов 1960: 2]. В такой ситуации об авангардной архитектуре было проще всего умалчивать, вынести ее за скобки и сделать как можно более незаметной. На несколько десятилетий архитектурный авангард оказывается в забвении. О нем почти перестают говорить публично. Теперь обсуждение сооружений конструктивизма в лучшем случае удел узких специалистов. В остальном эта архитектура либо не названа, либо описывается нейтрально-хладнокровным обтекаемым языком. На страницах путеводителей по одному из крупнейших городов СССР Свердловску, для которого конструктивизм стал системообразующим стилем, снимки авангардных сооружений в 1960—1970-х годах по-прежнему остаются на центральном месте в роли основных городских достопримечательностей. Но теперь их либо вовсе не сопровождают никакие пояснения, либо эти здания оказываются «своеобразными», «интересными», «необычными» или просто относимыми к «противоречивому периоду бурного развития города» (см.
Однако о реабилитации авангарда также не могло идти речи: он по-прежнему олицетворял «формалистические извращения» [Власов 1960: 2]. В такой ситуации об авангардной архитектуре было проще всего умалчивать, вынести ее за скобки и сделать как можно более незаметной. На несколько десятилетий архитектурный авангард оказывается в забвении. О нем почти перестают говорить публично. Теперь обсуждение сооружений конструктивизма в лучшем случае удел узких специалистов. В остальном эта архитектура либо не названа, либо описывается нейтрально-хладнокровным обтекаемым языком. На страницах путеводителей по одному из крупнейших городов СССР Свердловску, для которого конструктивизм стал системообразующим стилем, снимки авангардных сооружений в 1960—1970-х годах по-прежнему остаются на центральном месте в роли основных городских достопримечательностей. Но теперь их либо вовсе не сопровождают никакие пояснения, либо эти здания оказываются «своеобразными», «интересными», «необычными» или просто относимыми к «противоречивому периоду бурного развития города» (см. , например: [Свердловск 1975: 70—78]). Никакой «архитектуры будущего», никакого социального эксперимента, никакой «новой эстетики». Просто одна из составляющих «нового советского города», вполне гармонично в него вписанная и не выделяющаяся из общего ансамбля.
, например: [Свердловск 1975: 70—78]). Никакой «архитектуры будущего», никакого социального эксперимента, никакой «новой эстетики». Просто одна из составляющих «нового советского города», вполне гармонично в него вписанная и не выделяющаяся из общего ансамбля.
Несмотря ни на что, приемы и принципы архитектуры авангарда сохраняются в реальной градостроительной практике страны и в 1930-е годы, и в послевоенный период. Новые «подпольные» формы своего существования модернизм обнаруживает даже в мемориальном жанре военного времени [Басс 2021]. Парадоксально: конструктивистские комплексы продолжают определять облик крупнейших городов страны и нередко служить ориентиром в дальнейшей застройке города, их фотографии то и дело публикуются на страницах архитектурных журналов и альбомов, на разработках и проектах конструктивистов воспитываются новые поколения архитекторов, многие из предложенных авангардистами методов активно используются на практике, но при всем при этом этой архитектуры как бы нет. Она существует, но она не видна. О ней упоминают, но она не названа. Авангард оказывается лишен того, что определяло саму его сущность, — способа репрезентации, жеста, заявления. того, что давало ему ощущение порыва и энергетическую подпитку. Утрачивая свой язык, свой голос в публичном пространстве, архитектурный авангард растворяется в чужом нарративе, оказывается всего лишь частью огромного общего целого — «советского города» и «советской градостроительной истории». При этом мало того, что он всего лишь «один из ряда», его место в этом ряду практически незаметно и аккуратно закамуфлировано. Весьма показательно, что несколько десятилетий спустя именно этот образ отторгнутого и преданного забвению архитектурного авангарда окажется особенно привлекательным для художников и исследователей, которые попытаются придать ему новое эмоциональное и смысловое прочтение через риторику «забытой», «потерянной» и «табуированной» архитектуры (см., например: [Пэр, Коэн 2007; ТАБУ: Территория авангарда.
Она существует, но она не видна. О ней упоминают, но она не названа. Авангард оказывается лишен того, что определяло саму его сущность, — способа репрезентации, жеста, заявления. того, что давало ему ощущение порыва и энергетическую подпитку. Утрачивая свой язык, свой голос в публичном пространстве, архитектурный авангард растворяется в чужом нарративе, оказывается всего лишь частью огромного общего целого — «советского города» и «советской градостроительной истории». При этом мало того, что он всего лишь «один из ряда», его место в этом ряду практически незаметно и аккуратно закамуфлировано. Весьма показательно, что несколько десятилетий спустя именно этот образ отторгнутого и преданного забвению архитектурного авангарда окажется особенно привлекательным для художников и исследователей, которые попытаются придать ему новое эмоциональное и смысловое прочтение через риторику «забытой», «потерянной» и «табуированной» архитектуры (см., например: [Пэр, Коэн 2007; ТАБУ: Территория авангарда. Большой Урал 2019]).
Большой Урал 2019]).
Новые языки описания советской архитектурной утопии
Для того чтобы о советском архитектурном авангарде вновь стали говорить публично за пределами архитектурных кафедр и проектных институтов, в его восприятии должно было появиться нечто принципиально новое. Нечто, что позволило бы вырвать его из привычного контекста и увидеть в совершенно новом ракурсе. С конца девяностых годов постсоветские страны постепенно начинает охватывать глобальная волна интереса к модернистскому наследию XX века, которая постепенно превращается в культурный тренд: городские активисты, исследователи, художники и урбанисты по всему миру пытаются переосмыслить роль архитектуры модернизма в формировании современного городского пространства, культурных ценностей и модерности в целом [Craggs, Geoghegan and Neate 2013; Ilchenko 2020]. В постсоветских условиях эта глобальная тенденция накладывается на другую, локальную — стремление к масштабной критической рефлексии и переоценке советского культурного опыта. В архитектуре авангарда, с одной стороны, видят наследие и причастность мировым художественным трендам, с другой — она становится новым способом разговора о советском. В неожиданно повышенном интересе к советской архитектуре со стороны широкой аудитории угадываются и попытка переосмыслить исторический опыт, и поиск новых источников художественного вдохновения, и запрос на особую культурную идентичность. Но главное, советская архитектура вновь начинает выполнять функцию проекции социальных смыслов и снова обретает особый язык и способ репрезентации.
В архитектуре авангарда, с одной стороны, видят наследие и причастность мировым художественным трендам, с другой — она становится новым способом разговора о советском. В неожиданно повышенном интересе к советской архитектуре со стороны широкой аудитории угадываются и попытка переосмыслить исторический опыт, и поиск новых источников художественного вдохновения, и запрос на особую культурную идентичность. Но главное, советская архитектура вновь начинает выполнять функцию проекции социальных смыслов и снова обретает особый язык и способ репрезентации.
Этот новый язык несет в себе скрытое очарование советской архитектурной утопией, ее грандиозным нереализованным замыслом, попытку домыслить эпоху и по-новому ее вообразить. в академической и исследовательской среде такой взгляд приобретает формы интеллектуальной реконструкции советского культурного опыта. Любая биография провинциального архитектора, вовлеченного в градостроительную деятельность на рубеже 1920—1930-х годов, уже не локальный сюжет, а часть большой исследовательской программы по воссозданию уникального культурного проекта. Любой извлеченный из архивной папки эскиз забытого архитектурного замысла — повод не только для узкого экспертного разбора, а для его презентации и объяснения широкой публике. Теперь для этого есть язык и необходимая тональность разговора.
Любой извлеченный из архивной папки эскиз забытого архитектурного замысла — повод не только для узкого экспертного разбора, а для его презентации и объяснения широкой публике. Теперь для этого есть язык и необходимая тональность разговора.
В художественной среде увлеченность архитектурной утопией принимает образ сентиментальной тоски и ностальгии по неосуществленной мечте. Архитектура авангарда воспринимается как зеркало эпохи и объект художественной рефлексии. В фокусе внимания оказываются не столько архитектурные достоинства, сколько особая атмосфера обветшалых, а нередко превращенных в руины комплексов и сооружений. В районы советской застройки направляются вереницы художников, фотографов, исследователей, активистов и просто многочисленных любопытствующих. Об архитектуре авангарда начинают говорить, используя новые образы и символику: «место утопии», «артефакт эпохи», «пространство надежд». В самых различных уголках постсоветского пространства появляются архитектурные, художественные, исследовательские и просветительские проекты, удивительно созвучные по своему содержанию и близкие по стилистике: «Соцгород — город мечты», «Затерянный город будущего», «Утопия прошлого — город будущего» (см. : [Коммунальный авангард 2011; Затерянный город будущего 2011; Соцгород — город мечты 2013]). Новый язык авангардной архитектуры и ее особая «утопическая» поэтика «неслучившегося будущего» формируются в попытке обнаружить в постройках межвоенного периода следы ушедшей эпохи и особое ощущение времени.
: [Коммунальный авангард 2011; Затерянный город будущего 2011; Соцгород — город мечты 2013]). Новый язык авангардной архитектуры и ее особая «утопическая» поэтика «неслучившегося будущего» формируются в попытке обнаружить в постройках межвоенного периода следы ушедшей эпохи и особое ощущение времени.
Так авангардная архитектура вновь открывается перед широкой аудиторией. За постсоветский период авангардные постройки практически не претерпевают существенных реставраций, случаи их успешной ревитализации остаются единичными, а разработка реальных проектов, как правило, ограничивается стадией обсуждения. Однако именно за последние двадцать лет советский архитектурный авангард постепенно превращается в новый культурный феномен, получая в публичном пространстве особый символический статус. Биеннале, художественные выставки, архитектурные и городские фестивали, крупные издательские проекты, социальные инициативы — едва ли хоть один масштабный проект, посвященный развитию крупных индустриальных городов на постсоветском пространстве, обходится без отсылок к наследию авангарда.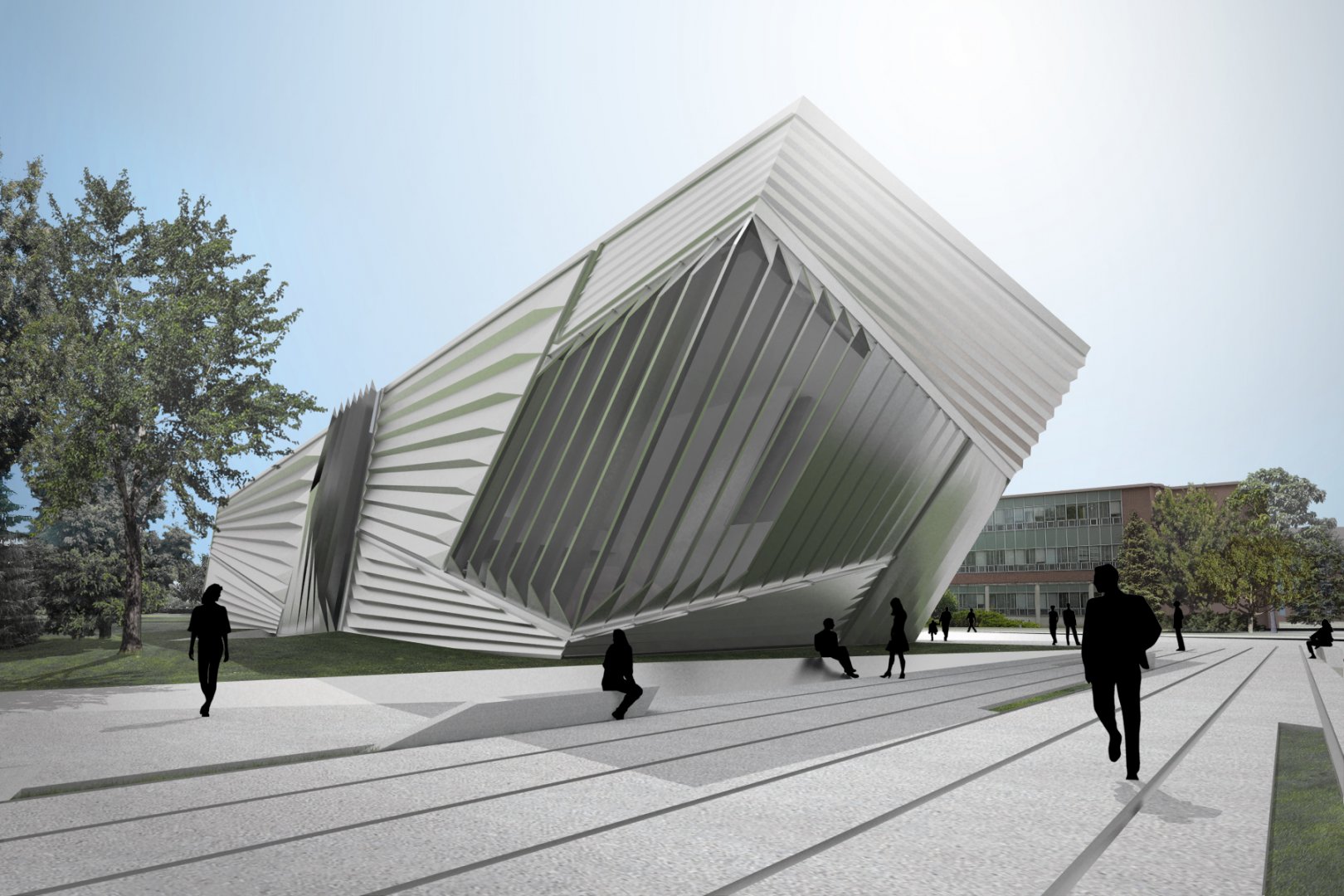 Само понятие «советский архитектурный авангард» и те значения, которые в него вкладываются сегодня, определяются и формируются именно этим множеством обсуждений, разговоров и дискуссий. Вместе с новой публичной риторикой и репрезентацией архитектура авангарда получает новую смысловую подпитку и, по сути, новую форму существования.
Само понятие «советский архитектурный авангард» и те значения, которые в него вкладываются сегодня, определяются и формируются именно этим множеством обсуждений, разговоров и дискуссий. Вместе с новой публичной риторикой и репрезентацией архитектура авангарда получает новую смысловую подпитку и, по сути, новую форму существования.
В период расцвета архитектурного авангарда в межвоенный период слово выступало неотъемлемым спутником строительного процесса, оно созидало, утверждало и легитимировало. Сегодня основная функция слова — новая маркировка и способ идентификации. В предельно интенсивном ритме трансформаций современной городской и социальной среды, постоянном наслоении друг на друга смыслов, идеологий, концепций, планов и проектов различимым оказывается лишь то, что в состоянии сохранить свои символические контуры и способность к публичной репрезентации.
Пример модернистской архитектуры, в этом смысле, особенно показателен. Как демонстрирует опыт работы с наследием модернизма в европейских странах последних лет, в каждом случае его «возрождение» оказывалось связанным с особой, неявной попыткой интерпретации прошлого, опосредованной архитектурными формами. В каждом случае разговор об архитектуре оборачивался и как бы подспудно перетекал в разговор об истории, национальных символах и ценностях. Если в случае постсоветских стран за интересом к архитектуре авангарда проступало стремление реконструировать и романтизировать советский градостроительный проект, то, например, в Германии, волна празднований юбилея Баухауса обнаруживала попытку романтизации демократических идеалов Веймарской республики, а культурные инициативы по ревитализации модернистских районов в странах Восточной Европы выявляли очевидную идеализацию межвоенной эпохи как времени становления и расцвета новых независимых государств в Литве, Польше или Чехии. В этом смысле, уже в силу своего происхождения архитектура модернизма продолжает проецировать новые социальные смыслы и идеи, неизменно требуя новой символической подпитки и публичного разговора. Во всяком случае, архитектура советского авангарда за последние два десятилетия сумела достаточно четко обозначить себя в символическом пространстве нового постсоветского города.
В каждом случае разговор об архитектуре оборачивался и как бы подспудно перетекал в разговор об истории, национальных символах и ценностях. Если в случае постсоветских стран за интересом к архитектуре авангарда проступало стремление реконструировать и романтизировать советский градостроительный проект, то, например, в Германии, волна празднований юбилея Баухауса обнаруживала попытку романтизации демократических идеалов Веймарской республики, а культурные инициативы по ревитализации модернистских районов в странах Восточной Европы выявляли очевидную идеализацию межвоенной эпохи как времени становления и расцвета новых независимых государств в Литве, Польше или Чехии. В этом смысле, уже в силу своего происхождения архитектура модернизма продолжает проецировать новые социальные смыслы и идеи, неизменно требуя новой символической подпитки и публичного разговора. Во всяком случае, архитектура советского авангарда за последние два десятилетия сумела достаточно четко обозначить себя в символическом пространстве нового постсоветского города.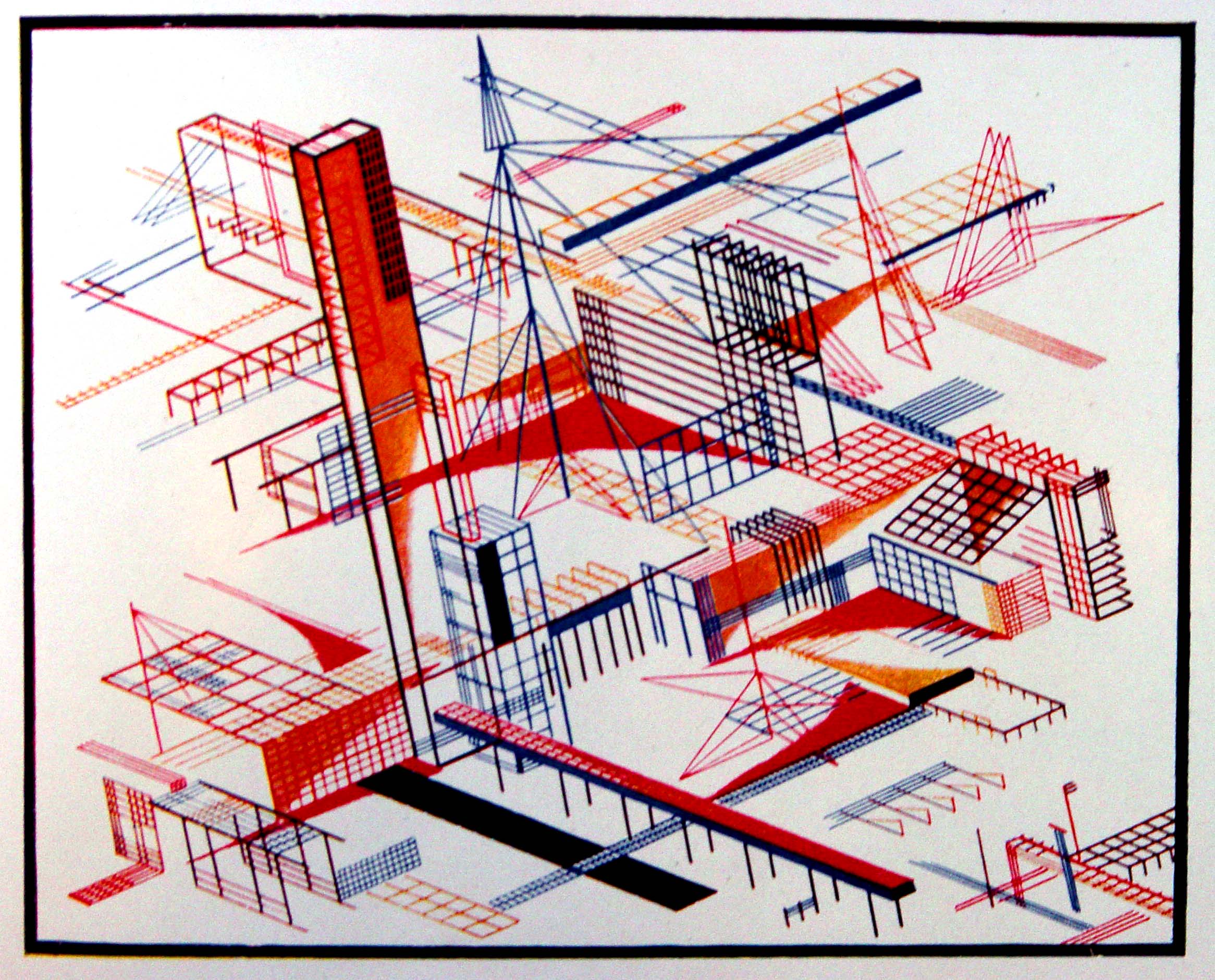
Объясняя принцип своих архитектурных лекций, Ле Корбюзье подчеркивал, что он очень прост: создавать эскиз и говорить одновременно. «Когда рисуешь на основе слов, слова демонстрируют свою практическую пользу, в результате чего ты создаешь нечто абсолютно новое» [Benton 2009: 13]. Слова сопровождают действия и, как следствие, помогают создавать новую реальность. Для архитектуры авангарда этот принцип можно считать универсальным.
Библиография / References
[Басс 2021] — Басс В. «Величайший и любимейший эпос нашего века»: проекты советских военных монументов 1941— 1945 годов // НЛО. 2021. № 167.
(Bass V. «Velichajshij i ljubimejshij jepos nashego veka»: proekty sovetskih voennyh monumentov 1941—1945 godov // NLO. 2021. № 167.)
[Вiкторов 1930] — Вiкторов Б. Соцiялicтичнi мiста Донбасу. Харкiв, 1930.
(Viktorov B. Socijalictichni mista Donbasu. Harkiv, 1930.)
[Власов 1960] — Власов А. Направленность советской архитектуры в условиях дальнейшего развития индустриализации строительства // Архитектура СССР. 1960. № 1.
Направленность советской архитектуры в условиях дальнейшего развития индустриализации строительства // Архитектура СССР. 1960. № 1.
(Vlasov A. Napravlennost’ sovetskoj arhitektury v uslovijah dal’nejshego razvitija industrializacii stroitel’stva // Arhitektura SSSR. 1960. № 1.)
[Выписки] — Выписки из зарубежных книг и журналов с высказыванием различных авторов о Ле Корбюзье и его творчестве // Музей архитектуры им. Щусева. Арх. 3492/1-28. С. 129 (6).
(Vypiski iz zarubezhnyh knig i zhurnalov s vyskazyvaniem razlichnyh avtorov o Le Korbjuz’e i ego tvorchestve // The Schusev State Museum of Architecture. Arch. 3492/1-28. P. 129 (6).)
[Гинзбург 1926] — Гинзбург М.Я. Международный фронт современной архитектуры // Современная архитектура. 1926. № 2.
(Ginzburg M. Mezhdunarodnyj front sovremennoj arhitektury // Sovremennaja arhitektura. 1926. № 2.)
[За уральский блюминг 1933] — Газета: За уральский блюминг. Свердловск. 1933. 15 июля.
Свердловск. 1933. 15 июля.
(Za Ural’skij bljuming. Newspaper. Sverdlovsk. 1933. July 15.)
[Затерянный город будущего 2011] — Затерянный город будущего. Анонс выставки «Большое Запорожье 1930. Затерянный город будущего», 2011 (http://afisha.zp.ua/vystavki/zateryannyy-gorod-buduschego_ 1304.html).
(Zaterjannyj gorod budushhego. Exhibition announcement «Bol’shoe Zaporozh’e 1930. Zaterjannyj gorod budushhego», 2011.)
[Злынка 1926] — Злынка Г. Чудеса большого города. М.; Л., 1926.
(Zlynka G. Chudesa bol’shogo goroda. Moscow; Leningrad, 1926.)
[Ильченко 2020] — Ильченко М. Архитектура модернизма как метафора эпохи. Новые нарративы // Неприкосновенный запас. 2020. № 2. С. 215—239.
(Ilchenko M. Arhitektura modernizma kak metafora jepohi. Novye narrativy // Neprikosnovennyj zapas. 2020. № 2. P. 215—239.)
[Коммунальный авангард 2011] — Коммунальный авангард: каталог-путеводитель / Ред. -сост. Е. Белова, А. Савицкая. Нижний Новгород, 2011.
-сост. Е. Белова, А. Савицкая. Нижний Новгород, 2011.
(Kommunal’nyj avangard: kat.-putevoditel’ / Ed. by E. Belova, A. Savickaja. Nizhnij Novgorod, 2011.)
[«Крокодил» 1949] — Журнал «Крокодил». 1949. № 22.
(Krokodil Journal, 1949. № 22.)
[Ласло Мохой-Надь и русский авангард 2006] — Ласло Мохой-Надь и русский авангард / Ред. Ю.Я. Герчук. М., 2006.
(Laslo Mohoj-Nad’ i russkij avangard / Ed. by Ju.Ja. Ger chuk. Moscow, 2006.)
[Лопатин 1925] — Лопатин П. Город настоящего и будущего. М., 1925.
(Lopatin P. Gorod nastojashhego i budushhego. Moscow, 1925.)
[Нендза-Щикониовска 2021] — Нендза-Щикониовска К. Частное — значит политическое. Утопия дома-коммуны Николая Кузьмина и современный ей дискурс коллективизации приватного // НЛО. 2021. № 167.
(Nendza-Shhikoniovska K. Chastnoe — znachit politicheskoe. Utopija doma-kommuny Nikolaja Kuz’mina i sovremennyj ej diskurs kollektivizacii privatnogo // NLO. 2021. № 167.)
2021. № 167.)
[Письмо 1957] — Письмо женевского архитектора Мориса Брайнарда Н.Д. Колли 3/IV, 1957 // Музей архитектуры им. Щусева. Арх. 3512.
(Pis’mo zhenevskogo arhitektora Morisa Brajnarda N.D. Kolli 3/IV, 1957 // The Schusev State Museum of Architecture. Arch. 3512.)
[Письмо Э. Мендельсона Л.А. Веснину] — Письмо Э. Мендельсона Л.А. Веснину // Музей архитектуры им. Щусева. Ф. 5. Оп. 1. Д. 103.
(Pis’mo Je. Mendel’sona L.A. Vesninu // The Schusev State Museum of Architecture. F. 5. Оp. 1. D. 103.)
[Пыжов 1929] — Пыжов Н. Советский город завтра. М.; Л., 1929.
(Pyzhov N. Sovetskij gorod zavtra. Moscow; Leningrad, 1929.)
[Пэр, Коэн 2007] — Пэр Р., Коэн Ж.-Л. Потерянный авангард. Русская модернистская архитектура 1922—1932. Екатеринбург: Tatlin, 2007.
(Pare R., Cohen J.-L. Poterjannyj avangard. Russkaja modernistskaja arhitektura 1922—1932. Ekaterinburg, 2007.)
Ekaterinburg, 2007.)
[Свердловск 1975] — Свердловск. Справочник-путеводитель. Свердловск, 1975.
(Sverdlovsk. Spravochnik-putevoditel. Sverdlovsk, 1975.)
[Современная архитектура 1926] — Современная архитектура. 1926. № 1.
(Sovremennaja arhitektura. 1926. № 1.)
[Соцгород — город мечты 2013] — Соцгород — город мечты. Репортаж о проекте в г. Новокузнецке 17.06.2013 // http://www.tvntv.ru/news/mountains_economy/sotsgorod _gorod_mechty.html.
(Socgorod — gorod mechty. A story on the project in Novokuznetsk 17.06.2013 // http://www.tvntv.ru/news/mountains_economy/sotsgorod_ gorod_mechty.html)
[СССР на стройке 1932] — СССР на стройке. 1932. № 7. Июль.
(USSR in Construction. 1932. № 7. July.)
[Табу: территория авангарда. Большой Урал 2019] — Табу: территория авангарда. Большой Урал. Выставочный проект, представленный на 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в 2017 году, фестивале «Первая фабрика авангарда» в г. Иваново в 2018 г. и галерее «На Шаболовке» (г. Москва) в 2019 году // https://archi.ru/events/17119/tabu-territoriya-avangardabolshoi- ural.
Иваново в 2018 г. и галерее «На Шаболовке» (г. Москва) в 2019 году // https://archi.ru/events/17119/tabu-territoriya-avangardabolshoi- ural.
(TABU: Territorija avangarda. Bol’shoj Ural. Vystavochnyj proekt, predstavlennyj na 4-j Ural’ skoj industrial’noj biennale sovremennogo iskusstva v 2017 godu, festivale «Pervaja fabrika avangarda» v g. Ivanovo v 2018 g. i galeree «Na Shabolovke » (g. Moskva) v 2019 godu // https://archi.ru/events/17119/tabu-territoriya-avangardabolshoi- ural)
[Тимофеев 2021] — Тимофеев М. Предчувствие утопии: репрезентации города будущего в повести А.В. Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) и в газетном романе Вл. Федорова «Чудо грешного Питирима» (1925) // НЛОЛ. 2021. № 167.
(Timofeev M. Predchuvstvie utopii: Reprezentacii goroda budushhego v povesti A.V. Chajano va «Puteshestvie moego brata Alekseja v stra nu krest’janskoj utopii» (1920) i v gazetnom romane Vl. Fjodorova «Chudo greshnogo Pitirima » (1925) // NLO. 2021. № 167.
Fjodorova «Chudo greshnogo Pitirima » (1925) // NLO. 2021. № 167.
[Хаустов 1930] — Хаустов П. Великое Запорожье. М., 1930.
(Haustov P. Velikoe Zaporozh’e. Moscow, 1930.)
[Хэзерли 2021] — Хэзерли О. Башня большевизирована! Американская архитектура и советская литература, 1919—1935 // НЛО. 2021. № 167.
(Hatherley O. The Tower Has Been Bolshevised! American Architecture and Soviet Literature, 1919—1935 // NLO. 2021. № 167. — In Russ.)
[Architecture of Independence 2018] — Architecture of Independence in Central Europe / Ed. by Ł. Galusek. Krakow: International Cultural Center, 2018.
[Benton 2009] — Benton T. The Rhetoric of Modernism: Le Corbusier as a Lecturer. Birkhäuser: Basel; Boston; Berlin, 2009.
[Cohen 2012] — Cohen J.-L. The Future of Architecture. Since 1889. London, 2012.
[Cooke 1990] — Cooke C. Images in Context / Architectural Drawings of the Russian Avant-Garde. New York: The Museum of Modern Art, 1990.
New York: The Museum of Modern Art, 1990.
[Craggs, Geoghegan and Neate 2013] — Craggs R., Geoghegan H., and Neate H. Architectural Enthusiasm: Visiting Buildings with the Twentieth Century Society // Environment and Planning D: Society and Space. 2013. № 31 (5). P. 879—896.
[Ilchenko 2020] —Ilchenko M. Working with the past, re-discovering cities of Central and Eastern Europe: cultural urbanism and new representations of modernist urban areas // Eurasian Geography and Economics. 2020. Vol. 61. Issue 6. P. 763—793 (10.1080/15387216.2020.1785907).
[The Avant-Garde: Russian Architecture in the Twenties 1992]— The Avant-Garde: Russian Architecture in the Twenties // Architectural Design Profile. № 93 / Ed. by C. Cooke and J. Ageros. 1992.
III биеннале: Архитектура авангарда — Управление культуры Администрации Екатеринбурга
5
Мне нравится!Социальные смыслы и новые языки описания
С 28 октября по 9 ноября в конференц-зале гостиницы «Исеть» (пр. Ленина, 69/1, этаж 1) пройдет цикл лекций, посвященных архитектуре авангарда, в рамках образовательной программы 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Ленина, 69/1, этаж 1) пройдет цикл лекций, посвященных архитектуре авангарда, в рамках образовательной программы 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Архитектура авангарда превращается в важную составляющую туристической капитализации разных городов, в обсуждаемый интеллектуалами и обывателями культурный феномен. Но всегда ли достаточно того языка, которым пользуются эксперты и журналисты, чтобы показать сложность и одновременно прорывной характер авангардных решений?
Михаил Ильченко, кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, предлагает результаты своих исследований в цикле лекций «Архитектура авангарда: социальные смыслы и новые языки описания».
Целью цикла является попытка рассмотрения авангардной архитектуры в качестве социокультурного феномена, находящегося в фокусе внимания различных областей гуманитарной науки. В ходе лекций планируется рассмотреть формы воздействия и влияния авангардных архитектурных экспериментов на способы организации городского пространства, ритмы повседневной жизни, эстетические установки и общую символику архитектурного облика современных городов.
Расписание лекций
28 октября 19:00
Лекция 1. Архитектура авангарда как универсальный язык эпохи: градостроительные эксперименты, импорт ценностей и культурная глобализация в первой половине XX века.
30 октября 19:00
Лекция 2. Мечта о новом мире: архитектура авангарда в пространстве современного города.
3 ноября 19:00
Лекция 3. Архитектурные эксперименты советского авангарда: утопии, проекты, реальность.
9 ноября 19:00
(в рамках лекционно-дискуссионного клуба «Приоткрытые понедельники»)
Лекция 4. Между «культурным наследием» и «утопией»: как говорить об архитектуре авангарда сегодня?
Место: конференц-зал гостиницы «Исеть» (пр. Ленина, 69/1, этаж 1).
поделились
в соцсетях
архитектура авангарда в поисках языков описания — Журнальный зал
Документ без названия
[стр. 215 – 235 бумажной версии номера]
215 – 235 бумажной версии номера]
Михаил Сергеевич Ильченко (р. 1985) – социолог, старший научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН.
Не будет преувеличением сказать, что основной вопрос, связанный с изучением архитектуры советского авангарда сегодня, – это сам факт резко возросшего к ней интереса. Авангардным сооружениям посвящаются многочисленные книги, альбомы и путеводители, о них снимаются фильмы, судьба этих построек становится предметом обсуждения на множестве конференций, «круглых столов» и общественных слушаний. Еще десять-пятнадцать лет назад интерес к авангарду был по большей части уделом узкого круга специалистов – архитекторов, градостроителей, искусствоведов. Конечно, и тогда многие издания ставили своей целью привлечь к памятникам авангарда внимание широкой общественности, а отдельные группы энтузиастов исследовали заброшенные пространства и районы старой советской застройки в самых различных уголках страны. Однако все эти инициативы, как правило, имели локальный характер и лишь изредка получали общественный резонанс. Сегодня дискуссии вокруг авангарда стали частью публичной риторики, а посвященные ему проекты почти гарантированно привлекают внимание достаточно широкой аудитории.
Однако все эти инициативы, как правило, имели локальный характер и лишь изредка получали общественный резонанс. Сегодня дискуссии вокруг авангарда стали частью публичной риторики, а посвященные ему проекты почти гарантированно привлекают внимание достаточно широкой аудитории.
Самое простое и, казалось бы, лежащее на поверхности объяснение такой ситуации – интеллектуальная мода и исследовательский тренд. Ведь в сущности любой исторический и культурный феномен по мере возникновения соответствующей исторической дистанции рано или поздно становится предметом особого интереса, открываясь с новой стороны для одних и переосмысливаясь другими. Но, во-первых, возникновение любой моды всегда чем-то обусловлено. А во-вторых, мода скоротечна. Она неизменно предполагает резкий и, как правило, не слишком продолжительный всплеск внимания и его столь же резкое угасание.
Интерес к ранней советской архитектуре не просто наблюдается длительный период – он получает регулярную подпитку, стимулируя появление новых ракурсов и способов рассмотрения. Область изучения архитектурного авангарда постоянно расширяется, и есть ощущение, что потенциал этого роста далеко не исчерпан.
Область изучения архитектурного авангарда постоянно расширяется, и есть ощущение, что потенциал этого роста далеко не исчерпан.
Понять причины такого интереса к авангардной архитектуре – значит понять те смыслы и значения, которыми она оказалась наполнена. Ведь очевидно, что постройки авангарда в советский период, в начале 1990-х и сегодня – это совершенно разные здания не только с точки зрения их физического состояния, но прежде всего с точки зрения окружающего их смыслового контекста. Архитектура авангарда отчетливо демонстрирует тот случай, когда способ разговора об архитектуре оказывается не менее важен, чем механизм ее физического сохранения. Новые языки описания сооружений авангарда обнаруживают не просто новые механизмы его символической репрезентации, но в сущности заново открывают эту архитектуру для широкой аудитории.
В этой связи крайне важно понять, какие формы разговора об авангардной архитектуре сложились сегодня в публичной риторике, насколько они устойчивы и в каких контекстах воспроизводимы. Или, иными словами, ответить на вопрос: как мы говорим об авангарде сегодня и какие смыслы в него вкладываем?
Или, иными словами, ответить на вопрос: как мы говорим об авангарде сегодня и какие смыслы в него вкладываем?
Для того чтобы лучше разобраться в этих процессах, имеет смысл обратиться к особенностям репрезентации архитектуры авангарда в условиях, где она не просто представлена отдельными образцами исторического наследия, а по-прежнему сохраняет свою градостроительную целостность и продолжает формировать живую городскую среду. Примером такого места может служить район бывшего социалистического города Уралмаш в Екатеринбурге.
От «идеального города» к городской окраине: трансформация нарратива
В советское время Уралмаш представлял собой едва ли не идеальный объект для мифологической интерпретации. Завод-гигант тяжелого машиностроения, выросший из леса и болот в рекордно короткие сроки, «детище первой пятилетки», давшее жизнь целому городу и сформировавшее судьбы нескольких поколений советских людей. Нарратив уралмашевской истории включал в себя все необходимые составляющие для конструирования образа эталонного советского города: победа над природой и освоение «пустого пространства», всесилие человеческой воли и преодоление времени, строительство цивилизации «без прошлого» и закладка новых традиций. При этом для каждой эпохи соцгород Уралмаш предлагал свою идеальную картину. В 1930-е – это пространство будущего, «новый рабочий город», вырастающий в «дремучем уральском лесу на громадной «просеке»[1]. В послевоенный период – цветущий город-сад с «улицами, утопающими в зелени» («Разве не о таком городе мечтали первые уралмашевцы!»)[2]. В 1960–1980-е – перспективный и интенсивно развивающийся микрорайон растущего «многоэтажного» Свердловска[3].
Нарратив уралмашевской истории включал в себя все необходимые составляющие для конструирования образа эталонного советского города: победа над природой и освоение «пустого пространства», всесилие человеческой воли и преодоление времени, строительство цивилизации «без прошлого» и закладка новых традиций. При этом для каждой эпохи соцгород Уралмаш предлагал свою идеальную картину. В 1930-е – это пространство будущего, «новый рабочий город», вырастающий в «дремучем уральском лесу на громадной «просеке»[1]. В послевоенный период – цветущий город-сад с «улицами, утопающими в зелени» («Разве не о таком городе мечтали первые уралмашевцы!»)[2]. В 1960–1980-е – перспективный и интенсивно развивающийся микрорайон растущего «многоэтажного» Свердловска[3].
Илл. 1. Панорама соцгорода Уралмаш. 1930-е годы. Фото из архива Музея истории Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ).
Илл. 2. Центральная площадь имени Первой пятилетки. 1958 год. Фото из юбилейного альбома, посвященного 25-летию УЗТМ.
1958 год. Фото из юбилейного альбома, посвященного 25-летию УЗТМ.
Нарратив истории соцгорода в советский период был стройным и цельным, а формирующий его символический ряд казался всеохватным и исчерпывающим.
В этой связи распад советской системы означал для Уралмаша не просто потерю функционального и идеологического значения. Утрата прежних символов означала для него потерю языка описания как такового – то есть в сущности символическое «исчезновение».
Пространства бывших социалистических городов в этом смысле оказались в довольно специфической ситуации. В советское время их положение было двойственным: с одной стороны, они воспринимались в качестве самостоятельных городских организмов, с другой, – были территориально привязаны к крупным индустриальным центрам. В постсоветских условиях такая особенность обусловила крайнюю неопределенность их положения. С утратой прежней функциональной роли идентичность соцгородов оказывалась размытой, и огромные пространства, некогда являвшиеся местом радикальных социальных и градостроительных экспериментов, превращались просто в участки территории, типичные «отдаленные районы» – периферию крупных городских агломераций. Вместе с тем их специфичность по-прежнему оставалась очевидной: и по пространственной логике, и по внешним очертаниям, и по характеру застройки они слишком отличались от других городских территорий.
Вместе с тем их специфичность по-прежнему оставалась очевидной: и по пространственной логике, и по внешним очертаниям, и по характеру застройки они слишком отличались от других городских территорий.
Это отличие было особенно ощутимым на символическом уровне. Соцгорода не имели никакой другой истории, кроме советской, и потому не могли апеллировать к дореволюционному прошлому в поисках новых символов и образов. Само их пространство оказывалось герметичным, как бы замкнутым на само себя, что затрудняло возможность вписать его в другие смысловые контексты. Вдобавок к этому на общем фоне «отказа» от советского прошлого «советское» в нем вовсе не выступало фигурой яростного отрицания, как это происходило, например, с насыщенными советской символикой центральными городскими площадями. Пространство соцгородов вообще слабо ассоциировалось с политикой и идеологией. В массовом восприятии оно олицетворяло собой пространство повседневности, быта и того жизненного уклада, утрата которого сопровождалась скорее ностальгическим переживанием, нежели резким отторжением или иронией.
В результате пространство соцгорода оказалось лишено каких-либо инструментов репрезентации, того языка, на котором о нем можно было бы говорить. Соцгород либо представал территорией, на которую по привычке проецировались исторические смыслы и значения, либо просто становился «невидимым».
Уралмаш в 1990-е годы превратился в типичную новую окраину постсоветского города. Его былая слава, градостроительное значение и статус передового района остались в прошлом, а само прошлое оказалось слишком коротким, чтобы стать источником для производства новых символов, способных хотя бы временно компенсировать утрату прежних. С упадком производства исчезала скрепляющая роль предприятия как символического центра соцгорода, с развитием транспортной сети и появлением метро – его подчеркнутая обособленность. Размывание идентичности соцгорода становилось естественным следствием общих структурных, экономических и социальных изменений.
При этом, в отличие от множества других знаковых пространств советской эпохи, Уралмаш не претерпел даже сколько-либо заметной идеологической инверсии и «переворачивания» смыслов: для демонстративного отторжения советского прошлого его символика была слишком нейтральной и погруженной в повседневность. В определенной степени возникший символический вакуум заполнялся образом Уралмаша как криминального и неблагополучного района 1990-х. Однако город и архитектура в границах такого нарратива выступали не просто фоном, а оказывались незаметной частью повседневности, по сути просто переставая существовать в качестве объекта, достойного внимания.
В определенной степени возникший символический вакуум заполнялся образом Уралмаша как криминального и неблагополучного района 1990-х. Однако город и архитектура в границах такого нарратива выступали не просто фоном, а оказывались незаметной частью повседневности, по сути просто переставая существовать в качестве объекта, достойного внимания.
Риторика «наследия» как способ разговора об архитектуре авангарда
Впрочем, тем сильнее оказывался эффект от того, что примерно со второй половины 1990-х годов именно архитектура постепенно стала способствовать появлению совершенно нового взгляда на соцгород. В выступлениях экспертов, публичных дискуссиях и отдельных высказываниях изредка заглядывающих на Уралмаш иностранных туристов все чаще и все отчетливее начала звучать мысль о том, что множество зданий, расположенных на территории района, имеют особую художественную и историческую ценность, а сам соцгород ни много ни мало является «одним из значительных градостроительных памятников в стране»[4].![]() То, что не было секретом для узкого круга специалистов, для широкой аудитории явилось настоящим откровением. Внезапно оказалось, что серые и внешне малопримечательные сооружения, формирующие облик не слишком благополучного района промышленного города, обладают несомненной архитектурной ценностью, претендуют на присвоение статуса памятников наряду со средневековыми церквями и ансамблями эпохи классицизма и при этом имеют все шансы быть вписанными в «общемировой культурный контекст». В массовом восприятии это приводило к столкновению двух совершенно несовместимых реальностей: повседневного, обыденного, неприметного – и общезначимого, ценного, относимого к культурному достоянию.
То, что не было секретом для узкого круга специалистов, для широкой аудитории явилось настоящим откровением. Внезапно оказалось, что серые и внешне малопримечательные сооружения, формирующие облик не слишком благополучного района промышленного города, обладают несомненной архитектурной ценностью, претендуют на присвоение статуса памятников наряду со средневековыми церквями и ансамблями эпохи классицизма и при этом имеют все шансы быть вписанными в «общемировой культурный контекст». В массовом восприятии это приводило к столкновению двух совершенно несовместимых реальностей: повседневного, обыденного, неприметного – и общезначимого, ценного, относимого к культурному достоянию.
Этот эффект особенно усиливался, когда речь заходила о причастности Уралмаша к мировым художественным тенденциям. Так, в начале 2000-х благодаря инициативе немецких экспертов получил развитие совместный российско-германский проект «Bauhaus на Урале», целью которого стал поиск следов работы выпускников знаменитой школы на промышленных стройках уральских городов в 1930-е годы. В случае с Уралмашем этот проект ассоциировался главным образом с именем Белы Шефлера – немецкого архитектора, участвовавшего в строительстве соцгорода. В ходе обстоятельной архивной работы было установлено, что Шефлер не просто был специально приглашен к работе в проектном отделе «Уралмашстроя» в 1932 году, но причастен к строительству едва ли не всех важнейших объектов соцгорода; он активно участвовал в декоративном оформлении помещений и был вовлечен в обсуждение значимых вопросов городского развития. Впоследствии его реальная роль и степень участия в градостроительном проектировании соцгорода стали предметом дискуссий среди архитекторов. Но в сущности все эти вопросы меркли перед главным – свидетельством символической причастности бренда «Баухауз» к соцгороду Уралмаш. В начале 2000-х само осознание этой связи производило мощный эмоциональный эффект. «На нашем “Уралмаше” – архитектор из “Баухауза”? Чтобы выпускник прославленной школы работал на “Уралмаше”!» – примерно такой была типичная реакция жителей на новые обнаруженные исторические свидетельства[5].
В случае с Уралмашем этот проект ассоциировался главным образом с именем Белы Шефлера – немецкого архитектора, участвовавшего в строительстве соцгорода. В ходе обстоятельной архивной работы было установлено, что Шефлер не просто был специально приглашен к работе в проектном отделе «Уралмашстроя» в 1932 году, но причастен к строительству едва ли не всех важнейших объектов соцгорода; он активно участвовал в декоративном оформлении помещений и был вовлечен в обсуждение значимых вопросов городского развития. Впоследствии его реальная роль и степень участия в градостроительном проектировании соцгорода стали предметом дискуссий среди архитекторов. Но в сущности все эти вопросы меркли перед главным – свидетельством символической причастности бренда «Баухауз» к соцгороду Уралмаш. В начале 2000-х само осознание этой связи производило мощный эмоциональный эффект. «На нашем “Уралмаше” – архитектор из “Баухауза”? Чтобы выпускник прославленной школы работал на “Уралмаше”!» – примерно такой была типичная реакция жителей на новые обнаруженные исторические свидетельства[5].
Это удивление и ошеломление имело крайне важное значение. Именно оно позволяло вырвать и высвободить пространство соцгорода из привычного контекста восприятия. Перед широкой аудиторией в совершенно новом свете представал целый район, который ранее ассоциировался исключительно с «советским» и «индустриальным», а позже закрепил за собой статус одной из самых криминогенных территорий страны. Знакомые здания, служившие ранее простым фоном городской повседневной жизни, теперь предъявлялись публике как образцы уникальной эстетики, имеющие несомненную историческую и художественную значимость. Полузаброшенное маргинальное пространство превращалось в «заповедник конструктивизма».
На общей волне отторжения и отказа от всего советского архитектура конструктивизма неожиданно предстала «наследием», имеющим мировое значение[6]. Эту смену языка и ракурса восприятия хорошо фиксирует текст буклета, выпущенного к столетию со дня рождения главного идеолога строительства соцгорода Уралмаш Петра Оранского в 1999 году. Описывая заслуги архитектора и подчеркивая прорывной характер его идей, автор статьи словно в оправдание отмечал:
Описывая заслуги архитектора и подчеркивая прорывной характер его идей, автор статьи словно в оправдание отмечал:
«Разумеется, эти здания были отражением стилистических направлений в развитии советской архитектуры и их возведение связано с реализацией социальных программ социалистического государства. Но ими создан неповторимый архитектурный образ индустриального городка с уютным, функционально комфортабельным микроклиматом, эмоционально созвучным его жителям»[7].
Дискурс «наследия» стал первым способом публичного разговора об авангардной архитектуре, делая ее различимой для массового сознания и выводя за рамки специализированных научных текстов. Новая риторика быстро усваивалась в постсоветских условиях – авангардные сооружения превращались в «памятники», «культурное достояние» и «объекты охраны». Теперь они представляли собой не просто «исторические образцы стиля», а часть «мирового наследия». Многочисленные постройки авангарда подробно описывались, каталогизировались, попадали в различные списки и реестры по охране.
В Екатеринбурге начали появляться первые неспециализированные издания, посвященные архитектурной застройке соцгорода Уралмаш, изображения его зданий все чаще попадали на страницы фотоальбомов и в наборы открыток, в публичном пространстве обсуждались проекты наподобие Уралмаша как «музея под открытым небом» и «Мекки конструктивизма», а само выражение «наследие авангарда» постепенно приобрело характер одного из городских брендов не в последнюю очередь благодаря району бывшего соцгорода. Одним словом, пусть и с опозданием, в российском региональном контексте постепенно утверждались основные тенденции работы с архитектурным наследием авангарда, получившие развитие в западных странах[8].
Значение дискурса «наследия» для популяризации авангарда и районов советской архитектурной застройки трудно переоценить. В сущности именно он и открыл архитектуру авангарда для широкой публики, сделав возможным сам разговор о ней на доступном языке. Между тем возможности этого дискурса при ближайшем рассмотрении оказываются весьма ограниченными. Логика, которая лежит в его основе, проста: если объект представляет собой культурную/историческую/художественную или какую-либо иную ценность – значит, эта ценность должна быть обоснована и подтверждена закреплением за этим объектом соответствующего статуса. Другими словами, чтобы стать частью «наследия», объект должен быть выделен и как бы исключен из общего ряда. И главное – он должен быть признан. В этом смысле все авангардные сооружения потенциально являются «памятниками», вопрос состоит лишь в характере и возможностях обоснования этого статуса.
Конечно, само обоснование не является сугубо формальным: признание объекта «наследием» предполагает его осмысление в широком культурном контексте; оно должно оцениваться с точки зрения исторического опыта, политики памяти, идеологических ценностей[9]. Однако это не меняет самой логики, наиболее ярко выражающейся в политике «музеификации» прошлого – своего рода маркировке зданий по их соответствию конкретному стилю, автору, эпохе и, как следствие, превращению их в «памятники» и «артефакты». Неслучайно особую популярность в дискуссиях вокруг авангардного наследия Уралмаша получили такие риторические фигуры, как «музей под открытым небом», «город-памятник», «коллекция памятников конструктивизма», «заповедник авангарда».
Впрочем, совсем скоро стало очевидно, что простое объявление районов авангардной застройки «музеями» и внесение новых зданий в «списки охраны» не решает проблемы, а в сущности лишь делает шаг на пути к ее формулированию. Очевидно, что для района с населением в несколько сотен тысяч человек, где сооружения авангарда определяют саму структуру застройки и облик всех основных улиц, такое пространство требовало новых интерпретаций и способов осмысления.
Будущее, которого не было: архитектура авангарда сквозь призму утопии
Открыв архитектуру авангарда широкой аудитории, дискурс «наследия» вместе с тем задал слишком узкие рамки для ее прочтения. Уникальный стиль, особая эстетика, смелые градостроительные решения, забытые имена архитекторов – все это увлекало и интриговало, однако не просто не исчерпывало, но скорее лишь намекало, что за отдельными сооружениями, комплексами зданий и целыми районами скрывается нечто большее, отсылающее к гораздо более глубинным смыслам, которые в существующем языке описания не могут быть раскрыты.
С ростом публичного интереса к авангарду архитектурные комплексы 1920–1930-х годов начинают все чаще попадать в фокус внимания проектов, где основным предметом рассмотрения становятся не столько их стилистические, эстетические или градостроительные особенности, сколько само время, которое они символизируют. В фотографиях на многочисленных выставках, изображениях арт-инсталляций и сюжетах на телевидении за авангардными постройками постепенно проступает эпоха их создания, с ее надеждами, ожиданиями и ощущением стремительных перемен. В геометрических объемах и скупых фасадах полуразрушенных зданий художники, дизайнеры, историки и журналисты пытаются уловить очертания ушедшего времени, почувствовать его характер и атмосферу. Здания авангарда становятся способом заглянуть в прошлое и поймать ощущение эпохи строительства «нового мира». И совершенно неважно, что этот мир в итоге так и не был построен, а сама эпоха неожиданно оборвалась, едва начавшись. Именно в этом и заключается особое очарование – говорить о будущем, которое не наступило.
Илл. 3. Нереализованный проект стадиона «Авангард» соцгорода Уралмаш. Архитекторы Виктор Безруков, Петр Оранский. 1930-е годы.
Так постепенно формируется дискурс «нереализованной утопии», предлагающий альтернативный вариант разговора об авангардной архитектуре. В 2006 году Уралмаш наряду с двумя другими конструктивистскими районами Москвы и Санкт-Петербурга становится площадкой проекта «Прогулки за искусством»[10]. В его дворы и тихие улицы направляются художники, искусствоведы и кураторы в стремлении отыскать в опустевшем пространстве «исчезнувшей советской цивилизации» новые смыслы и образы. Цель проекта так и формулируется: «найти в советском опыте художественную традицию»[11]. Завод «Уралмаш» предстает взору его участников в виде «фрагментов, руин, остовов некогда интенсивнейшей жизни канувшей в прошлое советской цивилизации», которые до сих пор сохраняют в себе «сверхчеловеческий натиск, мощь, взлет в несостоявшееся будущее»[12]. А сам район соцгорода видится «руиной, одичавшей окраиной, вороньей слободкой», местом, где советское прошлое переживается по-особому, как «то, что таит в себе силу будущего»[13].
«Утопический» дискурс меняет сам ракурс рассмотрения соцгорода. Уралмаш уже не просто уникальная застройка, а прежде всего эпоха, которую она воплощает и к которой апеллирует. За многочисленными конструктивистскими комплексами теперь угадываются не только «смелые градостроительные эксперименты», но очертания настоящего «города мечты» – замысла грандиозной утопии, контуры которой, как оказалось, вполне различимы в городском пространстве и по сей день. Авангардные постройки привлекательны уже не столько эстетикой и необычными формами, сколько свидетельствами принадлежности к эпохе – символами и метками времени. А потому предмет изучения становится еще и источником вдохновения. Ведь наряду с пространством «археологического» поиска районы советской застройки превращаются в пространство фантазии, игры воображения, сопровождаемой нотками особого романтического переживания.
Илл. 4. Заброшенный фонтан квартала «Дворянское гнездо». Фото автора.
Это, в частности, хорошо демонстрирует другой художественный проект, посвященный Уралмашу, – «Коммунальный авангард»[14]. В его рамках соцгород вновь превращается в пространство прогулок, творческих исследований и созерцаний. Однако в своем художественном и эмоциональном порыве устроители проекта пошли еще дальше. В предисловии к путеводителю по соцгороду в специально изданном каталоге проекта, в частности, говорится:
«Сегодня Уралмаш – завораживающая руина, где сложно отличить следы реального и утопического. Данная статья призвана помочь отыскать основные объекты соцгорода, […] но вам, уважаемый читатель, придется соблюдать одно базовое правило: добавляйте слово “возможно” к каждой нашей рекомендации. Например, на правой стороне улицы вы [возможно!] увидите то-то или вам [возможно!] стоит свернуть в такой-то переулок. Возможно, вы отправляетесь на прогулку по месту, которого не существует, но тени и отзвуки которого вам, возможно, удастся отыскать»[15].
Уралмаш здесь – пространство, не просто созерцаемое, но созидаемое, конструируемое воображением. «Остатки советской цивилизации» в виде полуразрушенных зданий не столько предмет археологического изучения, сколько повод помыслить «неслучившееся будущее». Каждая постройка – знак и символ. Потому в описании «руин и развалин» прочитывается скорее скрытое наслаждение образом, нежели беспокойство за сохранность и стремление определить уникальность сооружения.
«Утопический» дискурс был инспирирован художественными поисками и поэтому удачно заполнял те бреши и пустоты в понимании и ощущении архитектуры авангарда, которые оставлял после себя дискурс «наследия». Он расширял границы самого предмета рассмотрения: вместо «стиля» и «объекта охраны», им становилось время, его специфика и атмосфера. Он также предлагал новые возможности интерпретации: художественные образы оказывались не менее значимыми, чем поиск новых исторических свидетельств. Но, пожалуй, самое главное – «утопическое» прочтение добавляло в разговор об архитектуре авангарда новую сентиментальную тональность. Авангардные сооружения, старые кварталы становились предметом переживания вместе с проступающим за ними советским прошлым.
Илл. 5. Сохранившийся постамент памятника танкисту в одном из дворов исторической застройки соцгорода (улица XXII Партсъезда). Фото автора.
В таких условиях новое звучание приобретали множество сооружений, которые, даже имея статус памятников, ранее оставались в тени. Жилые комплексы коммунального типа обычно привлекали внимание городскими историями и рассказами о «первых лифтах», «двухъярусных квартирах» и «необычно светлых помещениях». Теперь эти истории обрели связный нарратив, мифологию и дополнительную эмоциональную подпитку. В рассказах экскурсоводов и сюжетах для путеводителей появился новый предмет для описания – то самое «возможное», «несостоявшееся», «неслучившееся». Одно дело говорить о неприглядной с виду серой двухэтажной коробке, оперируя сведениями о революционном новаторском типе жилья, и совсем другое – представить ее частью огромного нереализованного замысла, несбывшейся мечты своего времени.
Образ того Уралмаша, который сегодня вновь стал предметом интереса и живых дискуссий среди городской общественности, интеллектуалов и урбанистов, сформировался во многом благодаря именно этому дискурсу. Само пространство района в таком ракурсе наполнялось совершенно новыми смыслами: все элементы его исторической застройки стали восприниматься частью грандиозного проекта, нереализованного, незавершенного, но оттого еще более привлекательного. Теперь значение приобретало то, что раньше находилось на периферии интереса даже для специалистов. Любая ветхая, полуразрушенная постройка репрезентировалась как часть новаторского градостроительного замысла, участок зеленых насаждений – как элемент «зеленой утопии», а запущенные дворовые пространства – как составляющая огромной системы социальных коммуникаций. В процессе такого смыслового конструирования район Уралмаша вновь обретал цельность и символические границы, а у зрителя складывалась особая оптика его восприятия. Прогулка по индустриальному социалистическому городу из простого знакомства с «градостроительным памятником» превращалась в «путешествие во времени», где за каждой руиной и полуразрушенным зданием угадывался след ушедшей эпохи.
Своеобразной метафорой восприятия советского архитектурного пространства в таком ракурсе может служить небольшая деталь экспозиции недавней выставки «Уралмаш: вход со двора», представленной в Музее истории Екатеринбурга[16]. Этот выставочный проект, организованный во вполне традиционном ключе, с использованием архивных фотографий и выдержек из мемуаров, заканчивался довольно неожиданным сюжетом. В нем организаторы решили заострить внимание зрителя на проблеме ветшающих и постепенно исчезающих один за другим архитектурных памятников Уралмаша на примере одного из самых интересных и необычных сооружений района – здания бывшего кинотеатра «Темп». Для этого на фоне старых фото под стекло витрины были помещены куски кирпичей одной из его стен и фрагменты отвалившейся лепнины. Валяющиеся на улице среди многочисленных уралмашевских руин, они вряд ли привлекли бы чье-то внимание, но помещенные в качестве экспоната фрагменты еще существующего сооружения, которому едва исполнилось 85 лет, производили сильный эмоциональный эффект. Стекло, разделяющее зрителя и кирпичи, символизировало одновременно дистанцию и близость: за ним демонстрировалось недавнее, еще не ушедшее прошлое, но вместе с тем помещенное в витрину и тем самым отдаленное от зрителя. Это добавляло к осознанию ценности выставляемого объекта особое переживание, формируя тот самый ракурс восприятия, который в итоге и воплотился в дискурсе «нереализованной утопии».
Илл. 6. Здание кинотеатра «Темп». Архитектор Петр Оранский, фасад Моисея Рейшера. 1931 год. Фото автора.
Илл. 7. Фрагмент экспозиции с кусками кирпичей одной из стен кинотеатра «Темп». Фото автора.
Архитектура настоящего: «культурный» дискурс и его символическая логика
Казалось бы, оба эти подхода – дискурс «наследия» и дискурс «нереализованной утопии» – исходят из различных установок, следуют разной логике и видят реальность в совершенно разном свете. Но удивительным образом они оказываются схожи в одном принципиальном моменте: они не в состоянии мыслить авангардную архитектуру в качестве настоящего. Для риторики «наследия» все творения авангарда являются потенциальными памятниками и потому принадлежат некоему вневременному пространству, которое являет собой своего рода параллельную реальность и никак не связано с привычным течением жизни. Дискурс «утопии» мыслит архитектуру неким абстрактным будущим, которое никогда не наступит, и ассоциирует с надеждой, которой не суждено воплотиться в жизнь. В этом смысле вполне логично задаться вопросом: как мы собираемся адаптировать богатое архитектурное наследие авангарда к реалиям сегодняшнего дня, если мы отрываем его от реальности уже самим языком описания?
Для Уралмаша – района с многотысячным населением и огромной территорией, даже по меркам города-миллионника, – этот вопрос имеет особое значение. Когда «объектом наследия» или «территорией художественного эксперимента» становится отдельное сооружение или даже целый квартал – это может быть вполне эффективным вариантом работы с ними даже в долгосрочной перспективе. Однако, если в таком ракурсе предстает историческая застройка, определяющая облик, структуру и пространственную логику всего района, ограниченность такого прочтения оказывается абсолютно очевидной. Ведь если архитектура авангарда составляет собой естественную живую городскую среду, то и работа с ней должна мыслиться в современном текущем контексте.
Случаи, когда старые авангардные постройки на Уралмаше начали обретать новую функцию, а вместе с ней постепенно формировать и новый образ, стали появляться лишь в последние годы. Они не многочисленны, различны, обусловлены разными обстоятельствами и вряд ли позволяют говорить о какой-либо тенденции. Однако, демонстрируя разные способы освоения пространства, они между тем обнаруживают немало общих черт и если не выявляют, то по крайне мере намекают на определенные закономерности.
Первые настойчивые публичные призывы о необходимости придать авангардному сооружению на Уралмаше «новую жизнь» прозвучали в отношении знаменитой Белой башни – знаковой и, пожалуй, самой известной постройки района, его главного архитектурного символа. Дискуссии о дальнейших возможностях использования бывшего водонапорного сооружения начались еще с конца 1960-х годов, как только башня утратила свою изначальную функцию, и во многом были инициированы самим ее создателем Моисеем Рейшером. С тех пор Белая башня превратилась в своеобразную проекцию архитектурных идей и фантазий, что со временем лишь укрепило ее особый символический статус: в многочисленных проектах она успела побывать и рестораном, и театром, и радиостанцией. Периодически становясь объектом художественного интереса и местом проведения экскурсий, она пребывала в абсолютном запустении, пока несколько лет назад вновь не активизировались дискуссии о перспективах ее использования. Получивший одобрение проект «перевоплощения» башни принадлежал группе молодых архитекторов «Подельники» и предполагал ее трансформацию в музейное пространство. Открывшись для посетителей в новом формате в августе 2016 года, Белая башня одновременно взяла на себя функции своеобразной городской площадки, став местом проведения многочисленных культурных мероприятий – спектаклей-перформансов, фестивалей, лекций. Впрочем, основным результатом этой кампании можно считать даже не столько внешнее преображение Белой башни, сколько саму попытку помыслить ее вне рамок «консервации» и «сохранения наследия». Так, в официальной презентации проекта его основной целью наряду с реставрацией называлось «придание ей новой функции и смыслового наполнения»[17].
Илл. 8. Белая башня в 2013 году. Архитектор Моисей Рейшер. 1929 год. Фото автора.
Другой постройкой, претерпевшей в последние годы существенную трансформацию, стало одно из наиболее ярких и одновременно необычных конструктивистских сооружений Уралмаша – здание старого Дворца культуры («старый ДК»). Появившееся изначально как фабрика-кухня, со временем оно приросло новым торговым корпусом и по сути образовало целый архитектурный комплекс. К проектированию его отдельных частей непосредственное отношение имел Бела Шефлер, что способствовало привлечению к зданию дополнительного интереса со стороны зарубежных экспертов, впервые инициировавших обсуждение возможностей его реконструкции в рамках проекта «Bauhaus на Урале». За свою историю здание успело претерпеть несколько реконструкций, перенести пожар, при этом ситуация с его юридическим статусом как памятника архитектуры долгое время оставалась неопределенной. Официальное внесение комплекса в реестр объектов культурного наследия совпало в 2014 году с переездом в один из его корпусов образовательного учреждения – Екатеринбургской академии современного искусства. Переезд решал двойную задачу: небольшой молодой вуз получал новые площади, а здание и район – новый центр активности и смысловой акцент. При этом появление в бывшем Дворце культуры образовательного учреждения во многом осуществляло историческую символическую преемственность: здание, в соответствии с изначальной задумкой, продолжало реализовывать свои культурно-воспитательные функции.
Илл. 9. Пространство перед зданием торгового корпуса фабрики-кухни УЗТМ («старый ДК») во время проведения «The Beatles фестиваля» в августе 2016 года. Фото автора.
Наконец, еще одно знаковое преображение авангардной застройки соцгорода затронуло не отдельное здание или комплекс, а целое общественное пространство – территорию бульвара Культуры в самом центре исторической части Уралмаша. В рамках проекта «Бульвар 33» инициативная группа расположенного в здании «старого ДК» местного Центра культуры при поддержке властей района поставила целью придать этой территории «новую жизнь и новый импульс развития»[18], превратив ее в место социальной, культурной и творческой активности – то есть по сути в городское публичное пространство. Буквально в течение года на территории бульвара были проведены несколько крупных общественных мероприятий, включая музыкальные фестивали, ярмарки и городские праздники, в результате чего пространство, игравшее значимую общественную функцию в советское время и при этом фактически остававшееся «безжизненным» на протяжении последних двадцати лет, получило новые практики освоения и символические смыслы.
Илл. 10. Бульвар Культуры во время проведения «The Beatles фестиваля» в августе 2016 года. Фото автора.
Пожалуй, главное, что объединяет все эти случаи нового «освоения» авангарда – слово «культура». В каждом из них речь идет о «культурных функциях», «культурных активностях» или особом «культурном значении» в развитии района. С одной стороны, такая заостренность на «культурных» аспектах кажется абсолютно естественной: она вполне соответствует общим трендам «креативности» и внедрению «творческих индустрий» в городское пространство. Однако для работы с архитектурным авангардом «культурная» риторика несет дополнительное значение. Она является одним из способов помыслить его в настоящем времени и поместить в текущий контекст, наполнив актуальным содержанием. «Культура» здесь по сути – синоним сегодняшнего дня, а «культурный» дискурс – своего рода способ признания архитектурного авангарда существующим «здесь и сейчас», средство его маркировки как элемента живой городской среды.
Не удивительно, что в многочисленных публичных дискуссиях последних лет, посвященных возрождению и ревитализации исторической части соцгорода Уралмаш, его территория все чаще предстает то «новым культурным пространством», то местом «новых культурных инициатив», то территорией «культурного эксперимента» или даже «культурной революции»[19]. Постепенно складывающийся в этих обсуждениях образ нового, развивающегося, включенного в современные городские ритмы Уралмаша неизбежно мыслится, формулируется и репрезентируется в категориях «культурного развития», «культурного потенциала» и «культурного пространства».
Все это вполне можно было бы считать еще одной вариацией на темы «идеального будущего» и «новой утопии», если бы «культурный» дискурс не стал воспроизводиться на уровне официальной публичной риторики. Идеи создания «культурного кластера» и эффективного использования уникального «культурного ресурса» довольно быстро проникли и прочно закрепились в презентациях, концепциях и документах, обсуждаемых представителями административных структур, девелоперских компаний и бизнес-сообщества. Более того, многие из проблем, связанных с развитием района – сохранение ряда архитектурных памятников, использование общественных пространств, новое освоение зеленых зон, – были публично озвучены впервые именно благодаря такой форме подачи. Выведя обсуждение работы с исторической застройкой Уралмаша на уровень вопросов общегородского развития, «культурная» риторика в сущности стала первым способом разговора об архитектуре соцгорода в форме предметного диалога между общественниками, властью и бизнесом. Городская общественность и интеллектуалы оказались способны наиболее четко сформулировать свои проекты и предложения по работе с наследием авангарда, апеллируя к «культурным практикам» и «творческим индустриям», а власть оказалась готовой принять их именно в такой подаче и на таком языке.
Ограниченность «культурного» дискурса в этом смысле оказалась вписана в его же преимущества. Его воспроизводство на уровне официальной риторики, излишняя мягкость и компромиссность стали чреваты чрезмерной тиражированностью и риском превращения живого языка, улавливающего свежий взгляд на архитектурный авангард, в сухие штампованные конструкции, постепенно теряющие реальное смысловое содержание. Так, за последний год мероприятиями и выставочными проектами, посвященными развитию Уралмаша, успела отметиться едва ли не каждая культурная институция Екатеринбурга. В большинстве из них Уралмаш внезапно представал уникальной площадкой для «культурных экспериментов» и средоточием «культурных ресурсов». Разговор о новом «культурном облике» района стал трендом, модной тенденцией, которая все еще в состоянии производить новые идеи, но одновременно способна серьезно обесценивать смысловое значение многих высказанных ранее.
Вполне вероятно, что «культурное» прочтение станет лишь промежуточной формой разговора об архитектуре авангарда, позволяющей наметить возможное пространство будущих дискуссий. С изменением контекста – социального, градостроительного, экономического, интеллектуального – эта архитектура, наверняка, потребует новых значений и интерпретаций, а возможно, обратится к уже существующим, реанимируя прежние символы. Но на данный момент и в текущем контексте «культурная» риторика способна увидеть в пространстве авангардной застройки то, что не в состоянии увидеть никакая другая. Она может извлечь из этой архитектуры те смыслы, которые ранее оставались скрытыми или неочевидными.
***
Смена языков описания архитектуры абсолютно естественна, поскольку она обеспечивает ее развитие и включенность в текущие ритмы жизни в не меньшей степени, чем ее физическая перестройка или изменение окружающего пространства. Архитектура репрезентирует себя в символах, а эти символы всегда выражают нечто большее, чем просто задумку архитектора или градостроительную стратегию.
Для архитектуры авангарда это имеет принципиальное значение. Ведь само ее происхождение и небывалое распространение во многом стали результатом символических репрезентаций. В своем статусе «вестника новой эры» архитектура авангарда появилась не тогда, когда ее начали строить, а когда о ней начали говорить. В начале 1930-х годов Уралмаш, как и многие другие соцгорода, представлял собой огромную строительную площадку, утопающую в грязи и слабо приспособленную для жизни. В сущности никакого социалистического города тогда еще не было, а были лишь идея и устремление. Но на страницах журналов и в газетных статьях, призванных демонстрировать достижения советского градостроения, соцгород Уралмаш уже существовал, функционировал, развивался, становясь предметом обсуждения и образцом для подражания.
Архитектура авангарда была архитектурой слова и символа в не меньшей степени, чем новых строительных технологий и градостроительных приемов. Риторика и смысловой контекст составляли естественные условия ее существования в 1920–1930-е годы, и они во многом продолжают составлять эти условия и сегодня. Именно поэтому символические формы работы с архитектурой авангарда требуют пристального внимания и основательной рефлексии, оставаясь важной составляющей в мерах по ее сохранению и эффективному функционированию.
[1] Литвак А., Смоленский М. Уралмашстрой // СССР на стройке. 1932. № 7. С. 23.
[2] Макаров Е.М. УЗТМ (Уральский завод тяжелого машиностроения). Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1958.
[3] Буранов Ю.А., Пискунов В.А. Свердловск. Экскурсии без экскурсовода. Свердловск: Среднеуральское книжное издательство, 1973. С. 84.
[4] Стариков А.А., Звагельская В.Е., Токменинова Л.И., Черняк Е.В. Екатеринбург: история города в архитектуре. Екатеринбург, 1998. С. 222.
[5] См., например: Расторгуев А. Наследие эксперимента. Из истории архитектурного авангарда на Урале // Урал. 2011. № 8. С. 206; а также: Джапаков А. Возвращение имени: Бела Шефлер // Наука и жизнь. 2002. № 12.
[6] Kiaer C. Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism. Cambridge: MIT Press, 2005. P. 264–265.
[7] Токменинова Л.И. Оранский П.В. 100 лет со дня рождения. Екатеринбург: Уральская государственная архитектурно-художественная академия, 1999. С. 4.
[8] Ballester J.M. Opening Speech for Colloquy Organized by the Council of Europe with the Austrian Ministry of Science and Research and the Bundesdenkmalamt, Vienna (Austria), 11–13 December 1989 // Twentieth Century Architectural Heritage: Strategies for Conservation and Promotion. Cultural Heritage № 29. The Hague: Council of Europe Press, 1994. P. 6–9.
[9] Lehne A. Characteristics of 20th Century Architecture and the Cultural, Social and Economic Value of its Conservation // Twentieth Century Architectural Heritage… P. 11–16.
[10] Проект был организован Институтом «ПРО АРТЕ» и Екатеринбургским филиалом Государственного центра современного искусства в сентябре 2006 года.
[11] См.: Прогулки за искусством: Ленинград – Москва – Свердловск. Санкт-Петербург: Институт «ПРО АРТЕ», 2008.
[12] Там же. С. 75.
[13] Там же. С. 77.
[14] Проект «Коммунальный авангард» был организован Приволжским и Уральским филиалами Государственного центра современного искусства в формате выставки, представленной на первой Уральской биеннале современного искусства в Екатеринбурге (10–30 сентября 2010 года) и в Центре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде (9 ноября 2011 года – 10 января 2012 года).
[15] Коммунальный авангард: каталог-путеводитель / Ред.-сост. Е. Белова, А. Савицкая. Нижний Новгород, 2011. С. 35.
[16] Выставка «Уралмаш: вход со двора» проходила в Музее истории Екатеринбурга с 28 июля по 2 декабря 2016 года.
[18] См.: «Перевоспитывая» Уралмаш: бульвар Культуры решили преобразить зоопарком, катком и гастрофестами. Интервью с одним из инициаторов проекта «Бульвар 33» Верой Белоус (www.e1.ru/news/spool/news_id-452471-section_id-182.html).
[19] См.: Москвин Д. Культурная революция на районе. Уралмаш – памятник советской истории или участок тотальной застройки(https://momenty.org/city/i164573/).
| ВСЕ | АВАНГАРД
|
История искусства Маите: архитектура и авангард
ХХ век стал свидетелем создания авангардных движений. Даже когда они развивались в основном в пластических искусствах, некоторые из них оказали влияние на архитектуру, как в случае Де Стиджа или неопластицизма и русского конструктивизма.Оба движения были современниками другого крупного художественного движения того времени — Баухауза.В значительной степени связанный с тремя важными фигурами — художниками Питом Мондрианом и Тео ван Дусбургом, а также архитектором и мастером мебели Герритом Ритвельдом — Де Стейл (или «стиль»), возможно, впервые проявился в посткубистских картинах Мондриана, состоят в основном из ломаных горизонтальных и вертикальных линий. Эти работы превратились в более скромные геометрические композиции из ортогональных элементов, которые отображаются в основных цветах на белом фоне.В 1917 году Ритвельд создал канонический «красно-синий стул» и спроецировал эстетику неопластика в трех измерениях. Ван Дусбург какое-то время преподавал в Баухаусе, что позволило ему расширить круг Де Стейля до художников, таких как русский Эль Лисицкий, под влиянием которого Ван Дусберг начал «проектировать в виде аксонометрических рисунков серию гипотетических архитектурных конструкций, каждая из которых состоящий из асимметричного кластера шарнирных плоских элементов, подвешенных в пространстве вокруг объемного центра ».
Характеристики этой архитектуры были установлены ван Дусбургом: форма не подражает никакому другому стилю; особое внимание уделяется пластиковым элементам, помимо функции, массы, поверхности, времени, пространства, света, цвета и материала; это экономичная и функциональная архитектура; он не имеет какой-либо формы в соответствии с установленными стилями, и здание не монументально, а форма, открытая в пространство через окна; план земли имеет важное значение, но при этом стены не закрываются, даже если они точно поддерживают здание; это открытая архитектура, в которой учитываются пространство и время; он антикубический, и поверхности следуют центробежной тенденции, в то же время устраняются симметрия и повторение; в здании нет четкого фасада, и цвет включен в качестве пластической ценности, но, в целом, это архитектура без украшений, которая стремится быть синтезом неопластизма
Универсализирующая тенденция De Stijl вскоре уступила к более широким, более объективным проблемам современного движения.Например, в то время как знаменитый дом Шредера Ритвельда 1924 года в Утрехте — с подвижными стенами и перегородками, обеспечивающими динамическое, а не статическое ощущение пространства — являлся примером неопластического идеала объектов, плавающих в пространстве, он начал принимать более техническая архитектурная позиция. Проект De Stijl, благодаря необходимости и эволюции, стал более широкой траекторией, посвященной социальным проблемам и условиям. Желание создавать архитектуру для людей с помощью средств производства, а не архитектуры, просто руководствуясь эстетическими соображениями, стало объединяющим кличем более широкого европейского модернизма.
Русский конструктивизм — движение, существовавшее с 1913 по 1940 годы. Это было движение, созданное русским авангардом, но быстро распространившееся по всему континенту. Конструктивистское искусство стремится к полной абстракции с преданностью современности, где темы часто геометрические, экспериментальные и редко эмоциональные. Объективные формы, несущие универсальное значение, были гораздо более подходящими для движения, чем субъективные или индивидуалистические формы. Конструктивистские темы также довольно минималистичны, где произведения искусства разбиты на самые основные элементы.При создании произведений часто использовались новые медиа, что помогало создать упорядоченный стиль искусства. В то время было желательно искусство порядка, потому что сразу после Первой мировой войны возникло движение, которое предполагало необходимость понимания, единства и мира. Среди известных художников конструктивистского движения — Владимир Татлин, Казимир Малевич, Александра Экстер, Роберт Адамс и Эль Лисицкий.
Самым известным произведением Татлина остается его «Памятник Третьему Интернационалу» (1919-20, Москва), высотой 22 фута (6.7-м) железная рама, на которой покоились вращающийся цилиндр, куб и конус, все из стекла, которое изначально было разработано для больших размеров. После революции 1917 года Татлин (считающийся отцом русского конструктивизма) работал в новом советском комиссариате просвещения, который использовал художников и искусство для просвещения общественности. В этот период он разработал официально разрешенный вид искусства, в котором использовались «реальные материалы в реальном пространстве». Его проект Монумента Третьего Интернационала ознаменовал его первый набег на архитектуру и стал символом русской авангардной архитектуры и интернационального модернизма.
Русская революция и авангардная архитектура
Жан Тернер рассматривает драматические изменения, произошедшие в архитектуре после большевистской революции, и глубокое влияние, которое они оказали на развитие первого в мире рабочего государства.
В девятнадцатом веке, как и во всех других искусствах, русские исследовали новые формы выражения в архитектуре после негативной реакции на импорт Петром Великим классической архитектуры в Россию и неприятие эпохи Просвещения Екатерины Великой.Дизайнеры вернулись к интерпретации традиционных русских форм строительства и декора.
Это произошло в пылу интеллектуальных дебатов о правильных принципах строительства. В своей книге «Русский авангард» Кэтрин Кук описывает различные центры архитектурной теории: «[…] Архитектурная школа Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге была оплотом классицизма, но у нее было два более радикальных соперника — архитектурный факультет Санкт-Петербургский строительный техникум и Королевский колледж в Москве.В 1850-х и 60-х годах учителя этих двух школ, Аполлинария Красовского в Петербурге и Михаила Быковского в Москве, заложили в России основы рационалистического взгляда на архитектуру, основанного на новых технологиях и социальных задачах ».
После убийства Александра III по воле народа (Народная воля) установился авторитарный общественный порядок. Однако новый класс промышленных и банковских династий возник из числа освобожденных крепостных с сильными националистическими и культурными предрассудками, основанными на крестьянских и торговых ценностях.Выбранная ими форма дизайна стала модерном или модерном, воплощенным в творчестве Федора Шехтеля.
Как и в других странах в то время, женщины требовали поступления в университеты для получения архитектурного образования. Поскольку все колледжи были вовлечены в радикальные волнения против царского авторитаризма, возникли опасения, что женщины, часто поддерживающие требования радикальных рабочих, могут доставить неприятности университетам.
Среди пяти женщин на Конгрессе русских архитекторов в 1911 году две — Елена Багаева и Луизи Молас — руководили собственной архитектурной школой, используя учебную программу Академии и преподавателей из инженерно-строительного колледжа.В 1902 году уроки женского строительства были открыты в Москве Иваном Фоминым, Уильямом Уолкотом и другими и проводились в офисе Шехтеля. К 1917 году женщины имели собственные политехникумы в Москве и Петербурге с полными пятилетними курсами по архитектуре, строительной инженерии, химии и электромеханике и по указу получили «право возводить здания». Однако этот указ был реализован вместе со многими другими практическими и образовательными свободами только после большевистской революции октября 1917 года.
Первыми двумя указами нового большевистского правительства были Указ о мире, который вывел Россию из Первой мировой войны, и Указ о земле, который национализировал всю землю и недвижимость, заложив новую уникальную основу для советской архитектуры и планирования. .
Ленин передал Анатолию Луначарскому управление Наркомпроса. Это сформировало политику общественного образования, включая плановое присвоение наследия старого мира наряду с новыми формами, возникшими в искусстве и архитектуре.Позднее эта точка зрения была опровергнута в 1920 г. в «Пролеткульте» Александра Богданова, который утверждал, что сами пролетарии создадут новые формы культуры ab initio.
В ноябре 1917 года партия большевиков созвала собрание молодых прогрессивных художников, писателей и дизайнеров Петрограда в Смольном институте, чтобы обсудить их возможное сотрудничество с Советской властью. С той же скоростью новый комиссариат заручился поддержкой более авторитетных художников, таких как Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин и Александр Бенуа, поручив им сохранение произведений искусства в общественных зданиях и создание политики сохранения исторических зданий.
Иван Леонидов, модель Института Ленина, Москва, 1927
Мятежники, такие как Владимир Маяковский, Александр Родченко и Любовь Попова, изначально находившиеся на окраине респектабельного академического мира, начали преподавать в художественных школах и исследовательских учреждениях. В Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) в Москве были созданы художественные направления рационализма и конструктивизма. Рационалисты сосредоточились на эстетической рациональности и форме; Конструктивисты о технической рациональности и науке.Супрематисты Иван Леонидов и Яков Черников отдавали предпочтение индивидуальным постройкам абстрактно-геометрического качества на открытых площадках. Классицизм не был полностью отвергнут, но принял новые формы, например, в творчестве Ивана и Игоря Фоминых, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха, проектировавших Библиотеку им. Ленина.
Большая часть их первых работ была теоретической, потому что пять лет гражданской войны и иностранной интервенции разрушили экономику. Традиционные строительные материалы были практически недоступны.Модели предлагаемых общественных зданий и памятников, например, памятник Третьему Коммунистическому Интернационалу Владимира Татлина 1919 года, были изготовлены из доступных материалов, но без возможности строительства. По словам Джона Мильнера, Башня Татлина должна была перекрывать Неву.
Рабочий клуб Русакова, Константин Мельников, 1927-28
В период гражданской войны художники, актеры и дизайнеры могли создавать пропагандистские постановки в поддержку нового советского государства.По словам Алексея Гана, «весь город был бы сценой, а вся пролетарская масса Москвы — исполнителями». Эти изделия стали предметом революционного дизайна. В Петрограде прошел грандиозный фестиваль к первой годовщине Октябрьской революции, в котором участвовали восемьдесят пять отдельных дизайнерских проектов по всему городу, выполненных известными художниками и дизайнерами, включая Натана Альтмана, украсившего Дворцовую площадь временной архитектурной скульптурой.
Никакая капитальная реконструкция не могла начаться, пока не была решена проблема быстрого производства стройматериалов.Однако эти пропагандистские проекты и модели должны были лечь в основу ныне известных авангардных зданий, построенных между 1923 и 1930-ми годами, когда советская архитектура оказала влияние на Запад, а не наоборот. Все они были спроектированы советскими архитекторами, за исключением нескольких Ле Корбюзье и Эриха Мендельсона.
Акцент делался на бурное строительство жилищно-коммунального хозяйства, рабочих клубов, дворцов культуры и универмагов. Они были предназначены для улучшения образования и условий жизни рабочего класса и освобождения женщин от домашней работы, позволяя им принимать полноценное участие в промышленном производстве.В Первом пятилетнем плане (1928–32) первоочередное внимание уделялось строительству зданий для поддержки быстрого развития электротехнической, черной металлургии и транспорта.
Нарконфин, Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис, 1930 год
Многие из этих знаковых зданий все еще стоят, хотя некоторые из них находятся в плохом состоянии. Однако они остаются данью силе марксистско-ленинской идеологии, которая породила первое в мире рабочее и крестьянское социалистическое государство, государство, которое более семи десятилетий стало покровителем современного искусства и архитектуры.
Эта статья была впервые напечатана в дайджесте SCRSS, выпуск 3, осень 2017 г .: www.scrss.org.uk/publications.
Авангардная архитектура | Место искусства, место жизни
Авангардная архитектура
Дом, построенный Полом-Эмилем Бордуасом, можно считать одним из первых проявлений модернизма в Канаде. Как визуально, так и формально он напоминает европейскую архитектуру периода 1920-1940 годов, когда влияние оказали движение Де Стейл, школа Баухаус и Ле Корбюзье.Прямые линии и квадратные объемы дома и его белые внешние стены являются результатом размышлений о современной архитектуре и международном стиле. Бордуас планировал дом как функциональное жилое пространство. Интерьер отличается открытыми пространствами, наполненными дневным светом, и теплыми тонами натурального дерева на полу, стенах и потолке. Простые формы и чистые линии делают этот дом исключительным образцом современной архитектуры и даже сегодня ярким напоминанием того периода. В то время два монреальских архитектора оказали влияние на продвижение интеграции идеалов ар-деко с архитектурой: Марсель Паризо, один из коллег Бордуа по École du Meuble (Школа изготовления мебели), и Эрнест Кормье, преподававший в Политехнической школе. (Политехническая школа) в Монреале.
Панорамный вид на жилую зону
Продолжительность: 53 секунды
Скачать видеофайл (4 МБ)
Скачать плагин QuickTime
В 1952 году, незадолго до отъезда Бордуаса в Нью-Йорк, доктор Альфонс Кампо и его жена Фернанда купили дом. Более сорока лет новые владельцы содержали дом образцовым образом, считая его уже историческим памятником, связанным с наследием Бордуаса.Таким образом, дом остался как внутри, так и снаружи, свидетельством мысли художника и того периода, когда он там жил. Однако со временем владельцам пришлось внести определенные изменения, которые были необходимы для материального выживания собственности. Например, когда выяснилось, что подземный поток повлиял на фундамент, возникла необходимость перенести дом на несколько метров. Это означало, что нужно было заливать новый фундамент и что студия Бордуаса была потеряна. Фотографии 1940-х годов показывают первоначальное состояние дома и дают возможность для сравнения последующих изменений, внесенных в здание в целом.
В 1998 году владельцы решили продать дом, который они приобрели у Поля-Эмиля Бордуа 46 лет назад. Усилиями президента и основателя Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire (музей изящных искусств Mont-Saint-Hilaire) дом был признан культурным достоянием Министерством культуры и коммуникаций. du Québec 14 апреля 2000 года. Затем был основан фонд для приобретения дома с целью превращения его в центр интерпретации движения Automatist и Refus global.Дом был куплен Fondation de la Maison Paul-Emile Borduas в 2001 году, а в 2008 году был передан в дар музею, который обязался обеспечить его охрану.
В 1940 году Бордуас занял у этого тестя 1 400 долларов [ок. 3 апреля 1941 г.], сумму, которую он полностью выплатил 17 ноября 1944 г .:
«У меня была возможность в Saint-Hilaire взять в долг всю мою задолженность по дому под 4½% годовых. Это означало значительное снижение интереса.
Таким образом, я возвращаю 1 500 долларов.00 вам, что возвращает вам капитал и почти все причитающиеся проценты.
Еще раз спасибо за вашу щедрую и терпеливую помощь. Это было очень полезно и утешительно для моей маленькой семьи ».
В 1944 году Озиас Ледук написал новогоднее поздравление семье и упомянул об авангардном характере дома Бордуасов, поблагодарив Жанин за открытку, которую она ему сделала:
«Поздравляю с Новым годом папу и маму и самых дорогих малышей. Особое спасибо Жаннин за ее открытку — несомненно, выражение pied à terre где-то; хочется попасть прямо [под] эту прекрасную праздничную или, возможно, небесную пальму, прямо рядом с этим домиком, который мог быть спроектирован Ле Корбюзье.»
Авангардная архитектура в деревне
Холмистые зеленые поля национальных живописных уголков страны долгое время служили плодородной испытательной площадкой для радикальных архитектурных идей. От неоклассиков, таких как Иниго Джонс или Джон Соун, до модернистов, таких как Смитсоны или Патрик Гвинн, архитекторы на протяжении всей истории использовали загородные дома как способ экспериментировать с необычными стилями и новаторскими методами строительства. Традиционно эта недвижимость использовалась только как убежище для удачливых семей, чтобы провести свой отпуск, но сегодня, когда люди все чаще предпочитают уезжать из города и работать удаленно из сельской местности, загородные резиденции становятся главной достопримечательностью.В отличие от города, где ограничения планирования часто создают препятствия для воображения, политика, известная как «положение о загородных домах», позволяет сельским домам исключительного характера нарушать некоторые из правил. Эта свобода позволила дизайну всех форм и размеров появляться по всей Великобритании. Сегодня нет оправдания перестраховщику.
Джим Стивенсон
Bumpers Oast, Kent by AcmeЭто причудливое здание, состоящее из пяти остроконечных башен, облицованное более чем 41 000 керамической плиткой, черпает вдохновение из домиков, которые можно найти в сельской местности Кента.Первоначально эти кругляшки служили обжиговыми печами, позволяя подвешивать и сушить хмель, но здесь они создают впечатляющие жилые помещения, в том числе столовую с потолком в три высоты.
Это может быть вдохновлено традиционным, но это очень современное обновление. «Общая проблема с бараками в том, что в них нет окон, поэтому жить в них — довольно уединенный опыт», — объясняет директор Acme Фридрих Людвиг. «Мы думали, что лучший способ справиться с этим — создать непонимание архитектуры 18 века.’ acme.ac
Джим Стивенсон
Kent Downs House, Кент, автор: MaLean Quinlan
В этом семейном доме с видом на Саут-Даунс английское мастерство сочетается со стилем Юго-Восточной Азии. Клиенты много лет жили за границей и хотели иметь место жительства, которое соответствовало бы различным местам, которые они считали своим домом. «Дом всегда проектировался как сплав», — объясняет архитектор Кейт Куинлан.В результате получилось сочетание простых местных материалов — рваного камня, дуба и цинка — и неожиданных деталей. «Именно лесная местность действительно повлияла на дизайн, детали и выбор материалов», — объясняет она. Два крыла здания увенчаны пологими крышами с открытыми карнизами и дымоходом, который создает фокус. Скромно и элегантно, это невероятно спокойное столкновение стилей. mcleanquinlan.com
Джеймс Бриттен
Очиток, Ратленд, автор Фезерстоун Янг
Частично здание, частично расширяющее вид, этот загородный дом состоит из двух крыльев, расположенных под парой граненых зеленых крыш, которые, кажется, поднимаются из земли по спирали.Изгибаясь, они огибают овальный двор, создавая сложную игру пересекающихся геометрических форм. «Конструкция крыши возникла из наклонного ландшафта», — говорит архитектор Сара Фезерстоун. «Это как если бы земля была приподнята, так что дом может проскользнуть под нее».
Дизайн Очиток, расположенный на окраине небольшой деревни, разделен на два эстетических подхода: одна сторона облицована текстурированным и полированным известняком. имитируют внешний вид соседних домов, в то время как другие представляют собой произведение белого, жесткого модернизма. пероstoneyoung.com
Тейт Хармер
Кинтайр, Хартфордшир, автор Тейт Хармер
В этом деревянном загородном доме есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. В его структуру встроен ряд передовых устройств, таких как интеллектуальное освещение, фотоэлектрические панели и тепловой насос с воздушным источником тепла, которые помогают зданию потреблять очень мало энергии. «Наша концепция заключалась в том, чтобы создать современный вариант традиционного английского коттеджа как Passivhaus», — говорит архитектор Рори Хармер.
Доска из лиственницы аккуратно покрывает экстерьер, а мебель, изготовленная на заказ, добавляет индивидуальности интерьеру. «Развитие технологий и материалов позволяет нам по-разному реагировать на климат», — говорит Рори. «Однако мы не должны упускать из виду контекст. Самые успешные загородные дома связаны с окружающей природой и живут в симбиозе с экосистемой ». tateharmer. ком
Номер-студио «Барк
»Black Barn, Suffolk от Studio Bark
Типичный сельскохозяйственный сарай был подвергнут интересному переосмыслению в этом семейном доме с пятью спальнями.Благодаря искусно выполненной конструкции из ножничных ферм из пихты Дугласа, его скатная крыша скручивается и искажается, образуя грандиозный стеклянный фронтон, который выступает над ландшафтом.
«Форма была получена из нашего желания лучше реагировать на путь солнца», — говорит архитектор Уилф Мейнелл, объясняя, что форма позволяет интерьеру сохранять тень летом, но оптимизировать тепло от солнца на солнце. холодные зимние месяцы. Снаружи стены обрабатываются с помощью шоу суги бан, японской техники, включающей обугливание дерева в огне, что защищает их от непогоды.В результате получается дом с удивительным теплом и осязанием. studiobark.co.uk
Эта статья представлена в ELLE Decoration Country Volume 16 , уже в продаже
ELLE Decoration Volume 16
Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.
ПОДПИСАТЬСЯ
Поддерживайте настроение и подпишитесь на ELLE Decoration здесь, и наш журнал будет доставлен прямо к вам.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Архитектура советского авангарда в Москве
Москва меняется к лучшему
Столица России приступила к преобразованию общественных пространств города. Пешеходные зоны, новые парки, велосипедные дорожки — ткань города полностью обновляется. Повышение осведомленности о значении советской авангардной архитектуры в последние годы привлекло новое внимание к достопримечательностям Москвы того времени.
Советская авангардная архитектура в Москве
Наконец, советская авангардная архитектура в Москве находится в стадии консервации и обновления.Всего несколько лет назад памятников советского авангарда, которые реставрировали или ремонтировали в Москве, было очень мало. Это действительно начало новой эры.
Совсем недавно были завершены реставрационные работы в общежитии Московского текстильного института, знаменитом Коммунальном доме Ивана Николаева 1929-1931 годов.
Реставрация Русаковского рабочего клуба Константина Мельникова (1927-29) практически завершена, его экспериментальный дом-студия открыт для посещения; однако недавно были забронированы только экскурсии с гидом (Государственным музеем архитектуры им. Щусева) — эти туры уже полностью забронированы до конца года.
Открытие музея современного искусства «Гараж»
Музей современного искусства «Гараж» вызывает интерес к советскому авангардному искусству и архитектуре и является основным двигателем открытия для публики достопримечательностей советского авангарда (например, дома-студии Мельникова) .
«Гараж» — благотворительный проект, направленный на создание общественного интереса к современному искусству и культуре. Первоначально он размещался в знаменитом Бахметьевском автобусном гараже (Константин Мельников). С 2012 года «Гараж» располагался во временном павильоне в Парке Горького (автор — Шигеру Бан).В июне 2015 года «Гараж» переехал в свой первый постоянный дом — проект-реставратор Рема Колхаса, который превращает знаменитый модернистский ресторан «Времена года 1968 года» в Парке Горького в современный музей.
Музей современного искусства «Гараж», Рем Колхас
Текст Питера Кноха, M-Plus Москва
Для получения дополнительной информации посетите наш пункт назначения МОСКВА
Современная архитектура является авангардом? — Ремесленная архитектура
Я люблю отличная современная архитектура.К сожалению, кроме новых материалов, мало что действительно инновационного или свежего внесло в модернистский дизайн в последние десятилетия. На мой взгляд, поезд идей современной архитектуры прибыл на вокзал примерно в 1964 году, и все до сих пор стоят и аплодируют.
В недавнем интервью Salon.com Камилла Палья высказала мое мнение. Чтобы архитектура была не привязана ни к своим историческим корням, ни к культурному и экологическому контексту, это означает, что она должна плыть по течению в море несостоятельных идей.Основная идея, лежащая в основе современной архитектуры, — это самооценка, и это было, было и всегда будет концом любого шанса на творческое развитие, выходящее за рамки самой идеи. Камилла, кажется, согласна…
«В« Сверкающих образах »вы утверждаете, что авангард мертв. Есть ли художники — будь то художники или звезды эстрады — которые сейчас делают новаторские работы?
Авангард был великолепным и революционным этапом в истории искусства, но он полностью позади.Художники и галереи должны (по бессмертным словам Энн Ландерс) проснуться и почувствовать запах кофе! Авангард, уходящий корнями в романтизм конца 18 века, был реакцией на сильную, но удушающую классическую традицию. Великие художники-модернисты, от Пикассо до Джеймса Джойса, обучались этой традиции, что придало смелости и силе их ниспровержения.
Но затем модернизм начал питаться самим собой, и он становился все слабее и слабее. Как я утверждаю в «Glittering Images», со времен Энди Уорхола не было ничего по-настоящему авангардного, за исключением ярких гомоэротических образов садомазохистского андеграунда Роберта Мэпплторпа.