Архитектура 18 19 века в россии: Архитектура 18 века в России [Российской империи]
Архитектура 18 века в России [Российской империи]
Основная статья: Культура России в 18 векеСодержание (план)
Архитектура при Петре I (до 1725 года)
см. Русское искусство начала 18 века#Русская архитектура начала 18 века
Архитектура середины 18 века (1725-1762)
В середине 18 века в архитектуре наибольшее воплощение нашло барокко. Высший расцвет русского и европейского барокко связан с творчеством архитектора Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771).
Зданиям, построенным в этом стиле, присущи необычайная пышность и нарядность. Стены дворцов и храмов богато украшены причудливой лепниной, скульптурами, колоннами, которые ничего не поддерживают. В архитектуре практически отсутствуют горизонтальные линии. Идеал барокко — плавно изогнутая кривая. Линия фасада динамична: выступы зданий то и дело сменяются углублениями. Неповторимую прелесть барочным постройкам придавала многоцветная окраска: позолотой сияли завершения колонн и скульптура, а белоснежные колонны чётко выделялись на голубой, бирюзовой, жёлтой или розовой поверхности стен.
Особой пышностью отличались интерьеры барочных дворцов. Стены залов обтягивались шёлковой тканью, украшались зеркалами, резной позолоченной лепниной. Полы отделывали паркетом со сложным рисунком. Потолки расписывались искусными живописцами. Хрустальные люстры, изысканные дверные ручки, замысловатые камины, часы, вазы, роскошная мебель дополняли все это великолепие. Дворцовые помещения выстраивались в длинный ряд проходных комнат и залов так, чтобы дверные проёмы были расположены по одной оси. Подобная планировка отвечала теме парадных шествий, которая непременно проявлялась не только в знаменитых «выходах монарха», но и во всех ритуалах, даже танцах.
Архитектура при Екатерине II (вторая половина XVIII века)
Градостроительство
В царствование Екатерины осуществлялась грандиозная градостроительная программа. Строились новые и перестраивались старые города. На Урале, в Сибири, Новороссии основывались поселения. Образцом градостроительного искусства служил Петербург с его регулярной планировкой.
Образцом градостроительного искусства служил Петербург с его регулярной планировкой.
В 1762 г. была создана Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Она должна была не только заниматься градостроительными проблемами двух российских столиц, но и разрабатывать генеральные планы губернских и уездных городов. К 1775 г. Комиссия о каменном строении утвердила планы 216 городов. Следует отметить, что, перестраивая старые города, архитекторы старались сохранить памятники древнерусского зодчества: храмы, колокольни, крепостные сооружения.
Во второй половине XVIII в. значительно возросло количество общественных (нежилых) сооружений, возводимых в городах. Строятся здания для учреждений городского самоуправления (городские думы, дворянские собрания и т. д.), больницы, школы, гостиные дворы, общественные бани, складские помещения. В крупных городах, помимо дворцов и особняков, появляются первые доходные дома, в которых квартиры сдаются в наем.
Классицизм
Изменяется архитектурный стиль: на смену пышному барокко приходит классицизм. «Благородная простота и спокойное величие» — так характеризуют новый стиль, утвердившийся в России в конце XVIII столетия. В нем преобладают прямые горизонтальные и вертикальные линии. Все части зданий симметричны, пропорциональны, уравновешены. Колонны не только служат украшением, но и имеют конструктивное предназначение — поддерживают перекрытия. Крыши делаются пологими. Фасады зданий архитекторы предпочитают окрашивать в сдержанные цвета — жёлтый, кофейный, серый, палевый… Материал с сайта http://wikiwhat.ru
«Благородная простота и спокойное величие» — так характеризуют новый стиль, утвердившийся в России в конце XVIII столетия. В нем преобладают прямые горизонтальные и вертикальные линии. Все части зданий симметричны, пропорциональны, уравновешены. Колонны не только служат украшением, но и имеют конструктивное предназначение — поддерживают перекрытия. Крыши делаются пологими. Фасады зданий архитекторы предпочитают окрашивать в сдержанные цвета — жёлтый, кофейный, серый, палевый… Материал с сайта http://wikiwhat.ru
Представители в Санкт-Петербурге
Крупнейшими зодчими классицизма в Петербурге являлись Жан-Батист Валлен-Деламот (Академия художеств, Гостиный двор на Невском проспекте), Иван Егорович Старое (Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец), Чарльз Камерон (Павловский дворец, Камеронова галерея Царского Села), Джакомо Кваренги (Эрмитажный театр, Ассигнационный банк), Николай Александрович Львов (Петербургский почтамт, Невские ворота Петропавловской крепости, церковь «Кулич и Пасха»).
Н. А. Львов (1751 — 1803) был известен не только как талантливый архитектор, но и как выдающийся учёный, писатель, график, музыковед. Он создал первый художественный салон (кружок), в который входили выдающиеся литераторы, композиторы, художники. Львова почитали гением вкуса.
Представители в Москве
В Москве творили Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) (дом Пашкова, дворцовый комплекс Царицыно) и Матвей Федорович Казаков (1738-1812/1813) (здания Сената в Кремле, Благородного собрания — ныне Колонный зал Дома союзов, Голицынской больницы — ныне 1-я Градская).
Картинки (фото, рисунки)
Вопросы к этой статье:Назовите основные признаки классицизма в архитектуре.
Что нового появилось в архитектуре во второй половине XVIII в.?
Назовите русских представителей классицизма в архитектуре.
Архитектура 18 века в России [Российской империи]
Основная статья: Культура России в 18 векеСодержание (план)
Архитектура при Петре I (до 1725 года)
см. Русское искусство начала 18 века#Русская архитектура начала 18 века
Русское искусство начала 18 века#Русская архитектура начала 18 века
Архитектура середины 18 века (1725-1762)
В середине 18 века в архитектуре наибольшее воплощение нашло барокко. Высший расцвет русского и европейского барокко связан с творчеством архитектора Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771).
Зданиям, построенным в этом стиле, присущи необычайная пышность и нарядность. Стены дворцов и храмов богато украшены причудливой лепниной, скульптурами, колоннами, которые ничего не поддерживают. В архитектуре практически отсутствуют горизонтальные линии. Идеал барокко — плавно изогнутая кривая. Линия фасада динамична: выступы зданий то и дело сменяются углублениями. Неповторимую прелесть барочным постройкам придавала многоцветная окраска: позолотой сияли завершения колонн и скульптура, а белоснежные колонны чётко выделялись на голубой, бирюзовой, жёлтой или розовой поверхности стен.
Особой пышностью отличались интерьеры барочных дворцов. Стены залов обтягивались шёлковой тканью, украшались зеркалами, резной позолоченной лепниной. Полы отделывали паркетом со сложным рисунком. Потолки расписывались искусными живописцами. Хрустальные люстры, изысканные дверные ручки, замысловатые камины, часы, вазы, роскошная мебель дополняли все это великолепие. Дворцовые помещения выстраивались в длинный ряд проходных комнат и залов так, чтобы дверные проёмы были расположены по одной оси. Подобная планировка отвечала теме парадных шествий, которая непременно проявлялась не только в знаменитых «выходах монарха», но и во всех ритуалах, даже танцах.
Стены залов обтягивались шёлковой тканью, украшались зеркалами, резной позолоченной лепниной. Полы отделывали паркетом со сложным рисунком. Потолки расписывались искусными живописцами. Хрустальные люстры, изысканные дверные ручки, замысловатые камины, часы, вазы, роскошная мебель дополняли все это великолепие. Дворцовые помещения выстраивались в длинный ряд проходных комнат и залов так, чтобы дверные проёмы были расположены по одной оси. Подобная планировка отвечала теме парадных шествий, которая непременно проявлялась не только в знаменитых «выходах монарха», но и во всех ритуалах, даже танцах.
Архитектура при Екатерине II (вторая половина XVIII века)
Градостроительство
В царствование Екатерины осуществлялась грандиозная градостроительная программа. Строились новые и перестраивались старые города. На Урале, в Сибири, Новороссии основывались поселения. Образцом градостроительного искусства служил Петербург с его регулярной планировкой.
В 1762 г. была создана Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Она должна была не только заниматься градостроительными проблемами двух российских столиц, но и разрабатывать генеральные планы губернских и уездных городов. К 1775 г. Комиссия о каменном строении утвердила планы 216 городов. Следует отметить, что, перестраивая старые города, архитекторы старались сохранить памятники древнерусского зодчества: храмы, колокольни, крепостные сооружения.
Во второй половине XVIII в. значительно возросло количество общественных (нежилых) сооружений, возводимых в городах. Строятся здания для учреждений городского самоуправления (городские думы, дворянские собрания и т. д.), больницы, школы, гостиные дворы, общественные бани, складские помещения. В крупных городах, помимо дворцов и особняков, появляются первые доходные дома, в которых квартиры сдаются в наем.
Классицизм
Изменяется архитектурный стиль: на смену пышному барокко приходит классицизм.
Представители в Санкт-Петербурге
Крупнейшими зодчими классицизма в Петербурге являлись Жан-Батист Валлен-Деламот (Академия художеств, Гостиный двор на Невском проспекте), Иван Егорович Старое (Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец), Чарльз Камерон (Павловский дворец, Камеронова галерея Царского Села), Джакомо Кваренги (Эрмитажный театр, Ассигнационный банк), Николай Александрович Львов (Петербургский почтамт, Невские ворота Петропавловской крепости, церковь «Кулич и Пасха»).
Н. А. Львов (1751 — 1803) был известен не только как талантливый архитектор, но и как выдающийся учёный, писатель, график, музыковед. Он создал первый художественный салон (кружок), в который входили выдающиеся литераторы, композиторы, художники. Львова почитали гением вкуса.
Представители в Москве
В Москве творили Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) (дом Пашкова, дворцовый комплекс Царицыно) и Матвей Федорович Казаков (1738-1812/1813) (здания Сената в Кремле, Благородного собрания — ныне Колонный зал Дома союзов, Голицынской больницы — ныне 1-я Градская).
Картинки (фото, рисунки)
Вопросы к этой статье:Назовите основные признаки классицизма в архитектуре.
Что нового появилось в архитектуре во второй половине XVIII в.?
Назовите русских представителей классицизма в архитектуре.
Архитектура России 18 века | История архитектуры
Глава «Искусство России. Архитектура». Раздел «Искусство 18 века». Всеобщая история искусств. Том IV. Искусство 17-18 веков. Автор: И.М. Шмидт; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1963)
Архитектура». Раздел «Искусство 18 века». Всеобщая история искусств. Том IV. Искусство 17-18 веков. Автор: И.М. Шмидт; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1963)
Восемнадцатый век — время замечательного расцвета русского зодчества. Продолжая; с одной стороны, свои национальные традиции, русские мастера в этот период стали активно осваивать опыт современной им западноевропейской архитектуры, перерабатывая ее принципы применительно к конкретно-историческим потребностям и условиям своей страны. Они во многом обогатили мировую архитектуру, внеся в ее развитие неповторимые черты.
Для русского зодчества 18 в. характерно решительное преобладание светской архитектуры над религиозной, широта градостроительных планов и решений. Воздвигалась новая столица — Петербург, по мере укрепления государства расширялись и перестраивались старые города.
Указы Петра I содержали конкретные распоряжения, касающиеся архитектуры и строительного дела.
По ряду своих стилевых особенностей русская архитектура первой половины 18 в. несомненно может быть сравнима с господствующим в Европе стилем барокко.
Тем не менее прямую аналогию здесь проводить нельзя. Русское зодчество — особенно петровского времени — обладало значительно большей простотой форм, чем было свойственно стилю позднего барокко на Западе. По своему идейному содержанию оно утверждало патриотические идеи величия русского государства.
Одно из примечательнейших сооружений начала 18 в.— здание Арсенала в Московском Кремле (1702—1736; архитекторы Дмитрий Иванов, Михаил Чоглоков и Кристоф Конрад). Большая протяженность здания, спокойная гладь стен с редко расставленными окнами и торжественно-монументальное оформление главных ворот явно свидетельствуют о новом направлении в архитектуре.
Новые веяния проникали и в культовую архитектуру. Ярким примером тому является церковь архангела Гавриила, более известная под названием Меншиковой башни. Она была построена в 1704—1707 гг. в Москве, на территории усадьбы А. Д. Меншикова у Чистых прудов, архитектором Иваном Петровичем Зарудным (умер в 1727 г.). До пожара 1723 г. (возникшего в результате удара молнии) Меншикова башня — как и построенная вскоре колокольня Петропавловского собора в Петербурге — была увенчана высоким деревянным шпилем, на конце которого находилась золоченая медная фигура архангела. По высоте эта церковь превосходила колокольню Ивана Великого в Кремле (Существующая ныне своеобразной формы легкая, удлиненная глава этой церкви была сделана уже в начале 19 в. Восстановление церкви относится к 1780 году.).
Меншикова башня представляет собой характерную для русского церковного зодчества конца 17 в.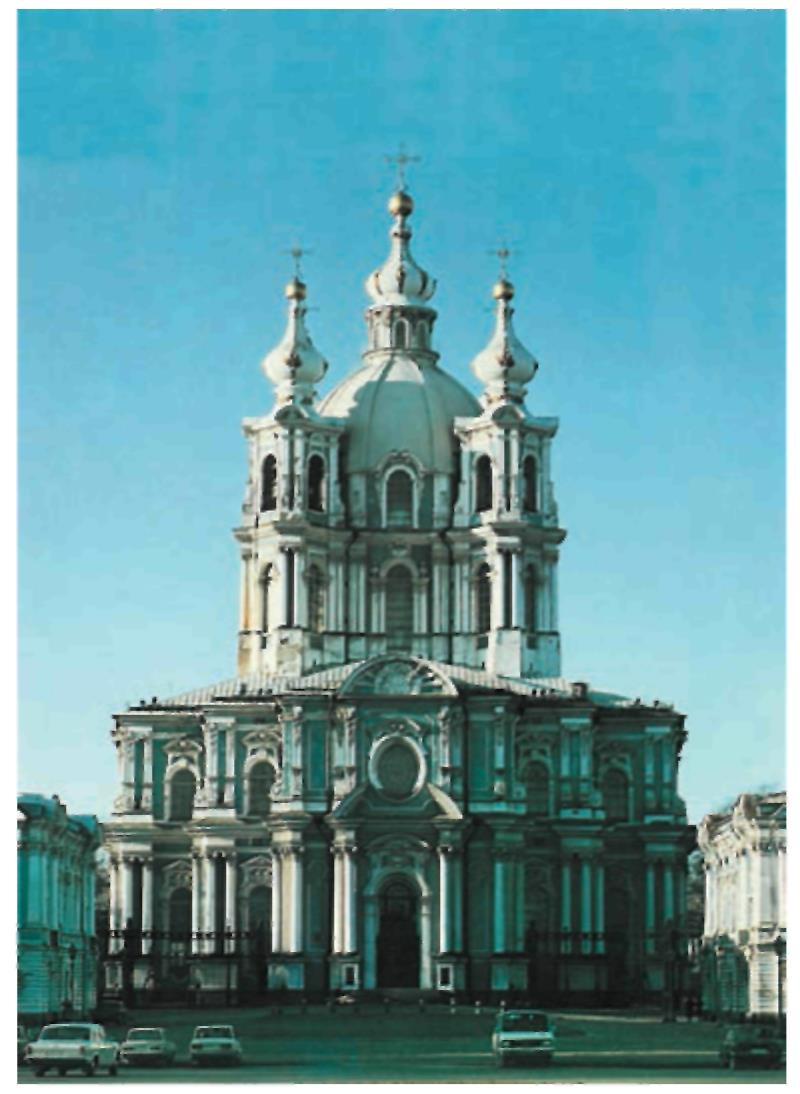 композицию из нескольких ярусов — «восьмериков» на «четверике». В то же время по сравнению с 17 в. здесь ясно намечаются новые тенденции и используются новые архитектурные приемы. Особенно смелым и новаторским было использование в церковном сооружении высокого шпиля, столь успешно применявшегося затем петербургскими архитекторами. Характерно обращение Зарудного к классическим приемам ордерной системы. В частности, с большим художественным тактом введены необычные для древнерусского зодчества колонны с коринфскими капителями. И уже совсем смело — мощные волюты, фланкирующие главный вход в храм и придающие ему особенную монументальность, своеобразие и торжественность.
композицию из нескольких ярусов — «восьмериков» на «четверике». В то же время по сравнению с 17 в. здесь ясно намечаются новые тенденции и используются новые архитектурные приемы. Особенно смелым и новаторским было использование в церковном сооружении высокого шпиля, столь успешно применявшегося затем петербургскими архитекторами. Характерно обращение Зарудного к классическим приемам ордерной системы. В частности, с большим художественным тактом введены необычные для древнерусского зодчества колонны с коринфскими капителями. И уже совсем смело — мощные волюты, фланкирующие главный вход в храм и придающие ему особенную монументальность, своеобразие и торжественность.
Зарудным были созданы также деревянные триумфальные ворота в Москве — в честь Полтавской победы (1709) и заключения Ништадтского мира (1721). Начиная с петровского времени воздвижение триумфальных арок стало нередким явлением в истории русской архитектуры. Как деревянные, так и постоянные (каменные) триумфальные ворота обычно богато украшались скульптурой. Эти сооружения были памятниками воинской славы русского народа и во многом способствовали декоративному оформлению города.
Эти сооружения были памятниками воинской славы русского народа и во многом способствовали декоративному оформлению города.
С наибольшей наглядностью и полнотой новые качества русского зодчества 18 в. проявлялись в архитектуре Петербурга. Новая русская столица была заложена в 1703 г. и строилась необычайно быстро.
С архитектурной точки зрения Петербург представляет особый интерес. Это единственный столичный город Европы, который целиком возник в 18 веке. В облике его нашли яркое отражение не только своеобразные направления, стили и индивидуальные дарования архитекторов 18 столетия, но и прогрессивные принципы градостроительного мастерства того времени, в частности планировки. Помимо блестяще решенной «трехлучевой» планировки центра Петербурга высокое градостроительное искусство проявилось в создании законченных ансамблей, в великолепной застройке набережных. Нерасторжимое архитектурно-художественное единство города и его водных артерий с самого начала представляло собой одно из важнейших достоинств и своеобразнейшую красоту Петербурга.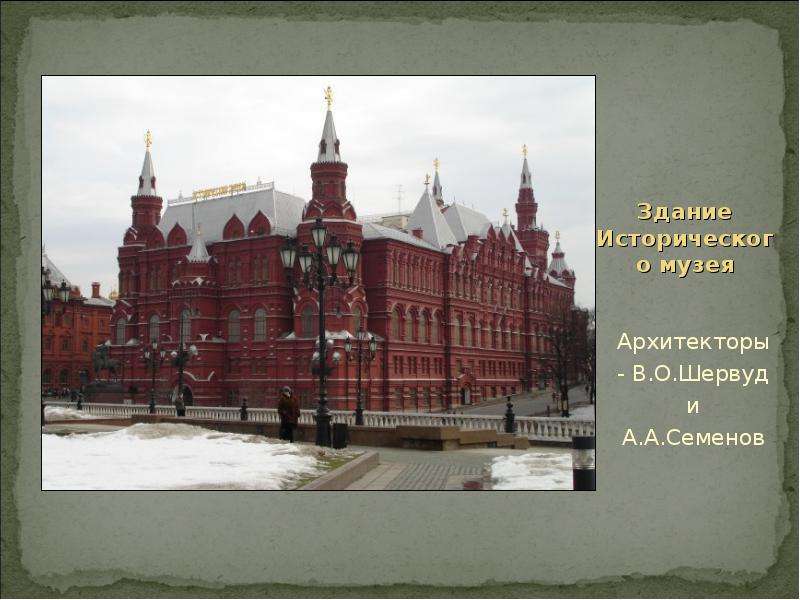
Доменико Трезини (ок. 1670—1734) был одним из тех архитекторов-иностранцев, которые, приехав в Россию по приглашению Петра I, оставались здесь на долгие годы, а то и до конца своей жизни. Имя Трезини связано со многими сооружениями раннего Петербурга; ему принадлежат «образцовые», то есть типовые проекты жилых домов, дворцов, храмов, различных гражданских сооружений.
Трезини работал не один. Вместе с ним трудилась группа русских архитекторов, роль которых в создании ряда сооружений была чрезвычайно ответственна. Лучшим и наиболее значительным творением Трезини является знаменитый Петропавловский собор, построенный в 1712—1733 гг. В основу сооружения положен план трехнефной базилики. Самая примечательная часть собора — его устремленная вверх колокольня. Так же как Меншикова башня Зарудного в своем первоначальном виде, колокольня Петропавловского собора увенчана высоким шпилем, завершенным фигурой ангела. Горделивый, легкий взлет шпиля подготовлен всеми пропорциями и архитектурными формами колокольни; продуман постепенный переход от собственно колокольни к «игле» собора. Колокольня Петропавловского собора была задумана и осуществлена как архитектурная доминанта в ансамбле строящегося Петербурга, как олицетворение величия русского государства, утвердившего на берегах Финского залива свою новую столицу.
Горделивый, легкий взлет шпиля подготовлен всеми пропорциями и архитектурными формами колокольни; продуман постепенный переход от собственно колокольни к «игле» собора. Колокольня Петропавловского собора была задумана и осуществлена как архитектурная доминанта в ансамбле строящегося Петербурга, как олицетворение величия русского государства, утвердившего на берегах Финского залива свою новую столицу.
В 1722—1733 гг. создается другое широко известное сооружение Трезини — здание Двенадцати коллегий. Сильно вытянутое в длину, здание имеет двенадцать секций, каждая из которых оформлена как относительно небольшой, но самостоятельный дом со своим перекрытием, фронтоном и входом. Излюбленные Трезини строгие пилястры в данном случае используются для объединения двух верхних этажей здания и подчеркивают мерный, спокойный ритм членений фасада Горделивый, стремительный взлет колокольни собора Петропавловской крепости и спокойная протяженность здания Двенадцати коллегий — эти прекрасные архитектурные контрасты осуществлены Трезини с безупречным тактом выдающегося мастера.
Большинству произведений Трезини свойственны сдержанность и даже строгость в архитектурном решении зданий. Это особенно заметно рядом с декоративной пышностью и богатым оформлением сооружений середины 18 столетия.
Многообразной была деятельность Михаила Григорьевича Земцова (1686—1743), работавшего вначале у Трезини и своим дарованием обратившего на себя внимание Петра I. Земцов участвовал, как видно, во всех крупных работах Трезини. Он завершил постройку здания Кунсткамеры, начатой архитекторами Георгом Иоганном Маттарнови и Гаэтано Кьявери, построил церкви Симеона и Анны, Исаакия Далматского и ряд других сооружений Петербурга.
Петр I придавал большое значение регулярной застройке города. Для разработки генерального плана Петербурга был приглашен в Россию известный французский архитектор Жан Батист Леблон. Однако составленный Леблоном генеральный план Петербурга имел ряд очень существенных недостатков. Архитектор не учитывал естественного развития города, и его план в значительной мере страдал абстрактностью. Проект Леблона был лишь частично осуществлен в планировке улиц Васильевского острова. Русские архитекторы внесли много существенных коррективов в его планировку Петербурга.
Проект Леблона был лишь частично осуществлен в планировке улиц Васильевского острова. Русские архитекторы внесли много существенных коррективов в его планировку Петербурга.
Видным градостроителем начала 18 века был архитектор Петр Михайлович Еропкин (ок. 1698—1740), давший замечательное решение трехлучевой планировки Адмиралтейской части Петербурга (включая Невский проспект). Проводя большую работу в образованной в 1737 г. «Комиссии о санкт-петербургском строении», Еропкин ведал застройкой и других районов города. Его деятельность оборвалась самым трагическим образом. Архитектор был связан с группой Волынского, выступавшей против Бирона. В числе других видных членов этой группы Еропкин был арестован и в 1740 г. предан казни.
Еропкин известен не только как архитектор-практик, но и как теоретик. Им были переведены на русский язык труды Палладио, а также начата работа над научным трактатом «Должность архитектурной экспедиции». Последняя работа, касающаяся основных вопросов русского зодчества, не была им закончена; после его казни этот труд завершили Земцов и И. К. Коробов (1700—1747) — создатель первого каменного здания Адмиралтейства. Увенчанная высоким тонким шпилем, перекликающимся со шпилем Петропавловского собора, башня Адмиралтейства построенная Коробовым в 1732—1738 гг., стала одним из важнейших архитектурных ориентиров Петербурга.
К. Коробов (1700—1747) — создатель первого каменного здания Адмиралтейства. Увенчанная высоким тонким шпилем, перекликающимся со шпилем Петропавловского собора, башня Адмиралтейства построенная Коробовым в 1732—1738 гг., стала одним из важнейших архитектурных ориентиров Петербурга.
Определение архитектурного стиля первой половины 18 в. вызывает обычно немало споров среди исследователей русского искусства. И действительно, стиль первых десятилетии 18 в. складывался сложно и зачастую очень противоречиво. В его формировании участвовал в несколько видоизмененном и более сдержанном по форме виде стиль западноевропейского барокко; сказывалось и воздействие голландской архитектуры. В той или другой степени давало себя знать и воздействие традиций древнерусской архитектуры. Отличительной чертой многих первых построек Петербурга была суровая утилитарность и простота архитектурных форм. Неповторимое своеобразие русского зодчества первых десятилетий 18 в. заключается, однако, не в сложном и подчас противоречивом переплетении архитектурных стилей, а прежде всего в градостроительном размахе, в жизнеутверждающей мощи и в величии сооружений, воздвигаемых в этот важнейший для русской нации период.
После смерти Петра I (1725) предпринятое по его указаниям широкое гражданское и промышленное строительство отходит на второй план. Начинается новый период в развитии русской архитектуры. Лучшие силы архитекторов направлялись теперь на дворцовое строительство, принявшее необыкновенный размах. Примерно с 1740-х гг. утверждается отчетливо выраженный стиль русского барокко.
В середине 18 столетия разворачивается широкая деятельность Варфоломея Варфоломеевича Растрелли (1700—1771), сына известного скульптора К.-Б. Растрелли. Творчество Растрелли-сына целиком принадлежит русскому искусству. Его творчество отразило возросшую мощь Российской империи, богатство высших придворных кругов, которые были основными заказчиками великолепных дворцов, созданных Растрелли и возглавляемым им коллективом.
Большое значение имела деятельность Растрелли по перестройке дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Место для дворца и обширного садово-паркового ансамбля, получившего впоследствии название Петергоф (ныне Петродворец), было намечено в 1704 г.(15).jpg) самим Петром I. В 1714—1717 гг. строились Монплезир и каменный Петергофский дворец по проектам Андреаса Шлютера. В дальнейшем в работу включается несколько архитекторов, в том числе Жан Батист Леблон — основной автор планировки парка и фонтанов Петергофа и И. Браунштейн — строитель павильонов «Марли» и «Эрмитаж».
самим Петром I. В 1714—1717 гг. строились Монплезир и каменный Петергофский дворец по проектам Андреаса Шлютера. В дальнейшем в работу включается несколько архитекторов, в том числе Жан Батист Леблон — основной автор планировки парка и фонтанов Петергофа и И. Браунштейн — строитель павильонов «Марли» и «Эрмитаж».
Ансамбль Петергофа с самого начала был задуман как один из крупнейших в мире ансамблей садово-парковых сооружений, скульптуры и фонтанов, соперничающий с Версалем. Великолепный по своей цельности замысел объединил в одно неразрывное целое Большой каскад и обрамляющие его грандиозные лестничные спуски с Большим гротом в центре и возвышающимся над всем дворцом.
Не касаясь в данном случае сложного вопроса авторства и истории строительства, которое проводилось после скоропостижной смерти Леблона, следует отметить установку в 1735 г. центральной по композиционной роли и по идейному замыслу скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льву» (авторство точно не установлено), чем завершился первый этап создания крупнейшего из регулярных парковых ансамблей 18 века.
В 1740-х гг. начался второй этап строительства в Петергофе, когда была предпринята грандиозная перестройка Большого Петергофского дворца архитектором Растрелли. Сохранив некоторую сдержанность решения старого Петергофского дворца, характерную для стиля петровского времени, Растрелли все же значительно усилил его декоративное оформление в стиле барокко. Особенно сильно Это проявилось в оформлении заново пристроенных к дворцу левого крыла с церковью и правого (так называемого Корпуса под гербом). Заключительный из основных этапов строительства Петергофа относится уже к концу 18 — самому началу 19 в., когда к делу были привлечены архитектор А. Н. Воронихин и целая плеяда выдающихся мастеров .русской скульптуры, включая Козловского, Мартоса, Шубина, Щедрина, Прокофьева.
В целом первые проекты Растрелли, относящиеся к 1730-м гг., в значительной мере еще близки к стилю петровского времени и не поражают той роскошью
и помпезностью, которые проявляются в его наиболее прославленных творениях — Большом (Екатерининском) дворце в Царском Селе (ныне г. Пушкин), Зимнем дворце и Смольном монастыре в Петербурге.
Пушкин), Зимнем дворце и Смольном монастыре в Петербурге.
Приступив к созданию Екатерининского дворца (1752—1756), Растрелли не возводил его целиком заново. В композицию своего грандиозного здания он умело включил уже имевшиеся дворцовые сооружения архитекторов Квасова и Чевакинского. Эти сравнительно небольшие корпуса, сообщающиеся между собой одноэтажными галереями, Растрелли объединил в одно величественное здание нового дворца, фасад которого в длину достигал трехсот метров. Низкие одноэтажные галереи были надстроены и тем самым подняты до общей высоты горизонтальных членений дворца, старые боковые корпуса включались в новое здание как выступающие ризалиты.
Как внутри, так и снаружи Екатерининский дворец Растрелли отличался исключительным богатством декоративного оформления, неистощимой выдумкой и разнообразием мотивов. Крыша дворца была позолочена, над балюстрадой, опоясывающей ее, возвышались скульптурные (тоже золоченые) фигуры и декоративные композиции. Фасад был украшен могучими фигурами атлантов и затейливой лепниной, изображающей гирлянды цветов. Белый цвет колонн отчетливо выделялся на фоне голубой окраски стен здания.
Белый цвет колонн отчетливо выделялся на фоне голубой окраски стен здания.
Внутреннее пространство Царскосельского дворца решено Растрелли по продольной оси. Предназначенные для парадных приемов многочисленные залы дворца образовывали торжественную красивую анфиладу. Основное цветовое сочетание внутренней отделки — золото и белый цвет. Обильная золотая резьба, изображения резвящихся амуров, изысканные формы картушей и волют — все это отражалось в зеркалах, а по вечерам, особенно в дни торжественных приемов и церемоний, было ярко освещено бесчисленным количеством свечей (Этот редкий по красоте дворец был варварски разграблен и подожжен немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Усилиями мастеров советского искусства Большой Царскосельский дворец ныне, насколько возможно, восстановлен.).
В 1754—1762 гг. Растрелли строит другое крупное сооружение — Зимний дворец в Петербурге, ставший основой будущего ансамбля Дворцовой площади.
В отличие от сильно вытянутого в длину Царскосельского дворца Зимний дворец решен в плане огромного замкнутого прямоугольника. Главный вход во дворец находился в то время в просторном внутреннем парадном дворе.
Главный вход во дворец находился в то время в просторном внутреннем парадном дворе.
Учитывая местоположение Зимнего дворца, Растрелли различно решил фасады здания. Так, фасад, выходящий на юг, на образовавшуюся впоследствии Дворцовую площадь, решен с сильной пластической акцентировкой центральной части (где находится парадный въезд во двор). Наоборот, фасад Зимнего дворца, обращенный к Неве, выдержан в более спокойном ритме объемов и колоннады, благодаря чему лучше воспринимается протяженность здания.
Деятельность Растрелли в основном была направлена на создание дворцовых сооружений. Но и в церковном зодчестве он оставил чрезвычайно ценное произведение — проект ансамбля Смольного монастыря в Петербурге. Строительство Смольного монастыря, начатое в 1748 г., растянулось на многие десятилетия и завершилось архитектором В. П. Стасовым в первой трети 19 в. К тому же такая важная часть всего ансамбля, как девятиярусная колокольня собора, так и не была осуществлена. В композиции пятиглавого собора и целом ряде общих принципов решения ансамбля монастыря Растрелли непосредственно исходил из традиций древнерусского зодчества. В то же время мы видим здесь и характерные черты архитектуры середины 18 в.: пышность архитектурных форм, неистощимое богатство декора.
В то же время мы видим здесь и характерные черты архитектуры середины 18 в.: пышность архитектурных форм, неистощимое богатство декора.
В числе выдающихся творений Растрелли — замечательный Строгановский дворец в Петербурге (1750—1754), Андреевский собор в Киеве, перестроенный по его проекту Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря близ Москвы, не сохранившийся до нашего времени деревянный двухэтажный Анненгофский дворец в Москве и другие.
Если деятельность Растрелли протекала в основном в Петербурге, то другой выдающийся русский зодчий, ученик Коробова Дмитрий Васильевич Ухтомский (1719—1775), жил и работал в Москве. С его именем связаны два замечательных памятника русской архитектуры середины 18 в.: колокольня Троице-Сергиевой лавры (1740—1770) и каменные Красные ворота в Москве (1753—1757).
По характеру своего творчества Ухтомский довольно близок Растрелли. И колокольня лавры и триумфальные ворота богаты по внешнему оформлению, монументальны и праздничны. Ценное качество Ухтомского — стремление к разработке ансамблевых решений. И хотя наиболее значительные замыслы его осуществлены не были (проект ансамбля Инвалидного и Госпитального домов в Москве), прогрессивные тенденции в творчестве Ухтомского были подхвачены и развиты его великими учениками — Баженовым и Казаковым.
Ценное качество Ухтомского — стремление к разработке ансамблевых решений. И хотя наиболее значительные замыслы его осуществлены не были (проект ансамбля Инвалидного и Госпитального домов в Москве), прогрессивные тенденции в творчестве Ухтомского были подхвачены и развиты его великими учениками — Баженовым и Казаковым.
Заметное место в архитектуре этого периода заняло творчество Саввы Ивановича Чевакинского (1713—1774/80). Ученик и преемник Коробова, Чевакинский участвовал в разработке и осуществлении целого ряда архитектурных проектов в Петербурге и Царском Селе. Дарование Чевакинского особенно полно проявилось в созданном им Никольском военно-морском соборе (Петербург, 1753 — 1762). Замечательно решена стройная четырехъярусная колокольня собора, чарующая своей праздничной нарядностью и безупречными пропорциями.
Вторая половина 18 в. знаменует новый этап в истории архитектуры. Так же как и другие виды искусства, русское зодчество свидетельствует об укреплении русского государства и росте культуры, отражает новое, более возвышенное представление о человеке. Идеи гражданственности, провозглашенные просветителями, представления об идеальном, построенном на разумных началах дворянском государстве находят своеобразное выражение в эстетике классицизма 18 в., сказываются во все более ясных, классически сдержанных формах архитектуры.
Идеи гражданственности, провозглашенные просветителями, представления об идеальном, построенном на разумных началах дворянском государстве находят своеобразное выражение в эстетике классицизма 18 в., сказываются во все более ясных, классически сдержанных формах архитектуры.
Начиная с 18 в. и вплоть до середины 19 столетия русская архитектура занимает одно из ведущих мест в мировом зодчестве. Москва, Петербург и целый ряд других городов России .обогащаются в это время первоклассными ансамблями.
Становление раннего русского классицизма в архитектуре неразрывно связано с именами А. Ф. Кокоринова, Валлена Деламота, А. Ринальди, Ю. М. Фельтена.
Александр Филиппович Кокоринов (1726—1772) был в числе непосредственных помощников одного из виднейших русских архитекторов середины 18 в. Ухтомского. Как показывают новейшие исследования, молодой Кокоринов построил прославленный современниками дворцовый ансамбль в Петровском-Разумовском (1752—1753), который до наших дней дошел измененным и перестроенным. С точки Зрения архитектурного стиля этот ансамбль был несомненно близок пышным дворцовым сооружениям середины 18 в., возводимым Растрелли и Ухтомским. Новым, предвещающим стиль русского классицизма было, в частности, применение сурового дорического ордера в оформлении въездных ворот дворца Разумовского.
С точки Зрения архитектурного стиля этот ансамбль был несомненно близок пышным дворцовым сооружениям середины 18 в., возводимым Растрелли и Ухтомским. Новым, предвещающим стиль русского классицизма было, в частности, применение сурового дорического ордера в оформлении въездных ворот дворца Разумовского.
Примерно с 1760 г. началась многолетняя совместная работа Кокоринова с приехавшим в Россию Валленом Деламотом (1729—1800). Родом из Франции, Деламот происходил из семьи известных архитекторов Блонделей. С именем Валлена Деламота связаны такие значительные сооружения Петербурга, как Большой гостиный двор (1761—1785), план которого был разработан еще Растрелли, и Малый Эрмитаж (1764—1767). Тонкой гармонии архитектурных форм, торжественно-величавой простоты исполнено сооружение Деламота, известное под названием Новая Голландия — здание адмиралтейских складов, где особенное внимание привлекает перекинутая через канал арка из простого темно-красного кирпича с декоративным применением белого камня.
Валлен Деламот участвовал в создании одного из своеобразнейших сооружений 18 в. — Академии художеств в Петербурге (1764—1788). Строгое, монументальное здание Академии, выстроенное на Васильевском острове, приобрело важное значение в городском ансамбле. Величаво и спокойно решен главный фасад, выходящий на Неву. Общий замысел этой постройки свидетельствует о преобладании стиля раннего классицизма над элементами барокко.
Всего более разителен план этого сооружения, который в основном, видимо, был разработан Кокориновым. За внешне спокойными фасадами здания, занимающего целый городской квартал, скрывается сложнейшая внутренняя система учебных, жилых и подсобных помещений, лестниц и коридоров, дворов и переходов. Особенно примечательна планировка внутренних дворов Академии, включавшая один огромный круглый двор в центре и четыре дворика меньших размеров, имеющих в плане форму прямоугольника, в каждом из которых закруглены два угла.
Близким искусству раннего классицизма сооружением является Мраморный дворец (1768-1785). Автором его был приглашенный в Россию янский архитектор Антонио Ринальди (ок. 1710—1794). В более ранних сооружениях Ринальди ясно проявлялись особенности позднего барокко и стиля рококо (последний особенно ощутим в утонченной отделке апартаментов Китайского дворца в Ораниенбауме).
Автором его был приглашенный в Россию янский архитектор Антонио Ринальди (ок. 1710—1794). В более ранних сооружениях Ринальди ясно проявлялись особенности позднего барокко и стиля рококо (последний особенно ощутим в утонченной отделке апартаментов Китайского дворца в Ораниенбауме).
Наряду с крупными дворцово-парковыми ансамблями в России получает все более широкое развитие усадебная архитектура. Особенно оживленное строительство усадеб развернулось во второй половине 18 в., когда был издан указ Петра III об освобождении дворян от обязательной государственной службы. Разъехавшиеся по своим родовым и вновь полученным поместьям русские дворяне начали усиленно строиться и благоустраиваться, приглашая для этого виднейших зодчих, а также широко используя труд талантливых крепостных архитекторов. Наибольшего расцвета усадебное строительство достигает в конце 18 — начале 19 века.
Мастером раннего классицизма был Юрий Матвеевич Фельтен (1730—1801), один из создателей замечательных набережных Невы, связанных с осуществлением градостроительных работ 1760—1770-х гг. С ансамблем набережных Невы тесно связано и сооружение поражающей благородством своих форм решетки Летнего сада, в проектировке которой участвовал Фельтен. Из сооружений Фельтена следует упомянуть здание Старого Эрмитажа.
С ансамблем набережных Невы тесно связано и сооружение поражающей благородством своих форм решетки Летнего сада, в проектировке которой участвовал Фельтен. Из сооружений Фельтена следует упомянуть здание Старого Эрмитажа.
Во второй половине 18 в. жил и работал один из величайших русских зодчих — Василий Иванович Баженов (1738—1799). Баженов родился в семье дьячка под Москвой, близ Малоярославца. В пятнадцать лет Баженов состоял в артели живописцев на строительстве одного из дворцов, где на него обратил внимание архитектор Ухтомский, принявший одаренного юношу в свою «архитектурную команду». После организации в Петербурге Академии художеств Баженов был направлен туда из Москвы, где он учился в гимназии при Московском университете. В 1760 г. Баженов едет в качестве пенсионера Академии за границу, во Францию и Италию. Выдающееся природное дарование молодого архитектора уже в те годы получает высокое признание, Двадцативосьмилетний Баженов приезжает из-за границы со званием профессора Римской Академии и званием академика Флорентийской и Болонской Академий.
Исключительное дарование Баженова как архитектора, его большой творческий размах с особенной наглядностью проявились в проекте Кремлевского дворца в Москве, над которым он начал работать с 1767 г., фактически задумав создание нового кремлевского ансамбля.
По проекту Баженова Кремль должен был стать в полном смысле слова новым центром древней русской столицы, причем самым непосредственным образом связанным с городом. В расчете на этот проект Баженов даже предполагал срыть часть кремлевской стены со стороны Москвы-реки и Красной площади. Тем самым вновь созданный ансамбль нескольких площадей в Кремле и в первую очередь новый Кремлевский дворец оказались бы уже ничем не отделенными от города.
Фасад Кремлевского дворца Баженова должен был быть обращен к Москве-реке, к которой сверху, с кремлевского холма вели торжественные лестничные спуски, оформленные монументально-декоративной скульптурой.
Здание дворца проектировалось четырехэтажным, причем два первых этажа имели служебное назначение, а в третьем и четвертом располагались собственно дворцовые апартаменты с большими двухсветными залами.
В архитектурном решении Кремлевского дворца, новых площадей, а также наиболее значительных внутренних помещений исключительно большая роль отводилась колоннадам (по преимуществу ионического и коринфского ордеров). В частности, целый строй колоннад окружал главную из запроектированных Баженовым площадей в Кремле. Эту площадь, имевшую овальную форму, архитектор предполагал окружить зданиями с сильно выступающими цокольными частями, образующими как бы ступенчатые трибуны для размещения народа.
Начались широкие подготовительные работы; в специально выстроенном доме была сделана замечательная (сохранившаяся доныне) модель будущего сооружения; тщательно разрабатывались и проектировались Баженовым внутренняя отделка и оформление дворца…
Ничего не подозревавшего зодчего ждал жестокий удар: как выяснилось впоследствии, Екатерина II не собиралась доводить это грандиозное строительство до конца, оно было затеяно ею в основном с целью продемонстрировать могущество и богатство государства в период русско-турецкой войны. Уже в 1775 г. строительство полностью прекратилось.
Уже в 1775 г. строительство полностью прекратилось.
В последующие годы наиболее крупной работой Баженова становится проектирование и постройка ансамбля в Царицыне под Москвой, предполагавшегося быть летней резиденцией Екатерины II. Ансамбль в Царицыне представляет собой загородную усадьбу с асимметричным расположением построек, исполненных в самобытном стиле, называемом иногда «русской готикой», но в известной мере основанном на использовании мотивов русской архитектуры 17 века.
Именно в традициях древнерусской архитектуры даются Баженовым сочетания красных кирпичных стен царицынских построек с деталями из белого камня.
Сохранившиеся баженовские постройки в Царицыне — Оперный дом, Фигурные ворота, мост через дорогу — дают лишь частичное представление об общем замысле. Проект Баженова не только не был осуществлен, но даже уже почти законченный им дворец был отвергнут приехавшей императрицей и по ее приказу сломан.
Дань зарождающимся предромантическим тенденциям Баженов отдал в проекте Михайловского (Инженерного) замка, который с некоторыми изменениями был осуществлен архитектором В. Ф. Бренной. Построенный по распоряжению Павла I в Петербурге, Михайловский замок (1797—1800) представлял в то время сооружение, окруженное, как крепость, рвами; через них были перекинуты подъемные мосты. Своеобразно сочетались здесь тектоническая ясность общего архитектурного замысла и вместе с тем сложность планировки.
Ф. Бренной. Построенный по распоряжению Павла I в Петербурге, Михайловский замок (1797—1800) представлял в то время сооружение, окруженное, как крепость, рвами; через них были перекинуты подъемные мосты. Своеобразно сочетались здесь тектоническая ясность общего архитектурного замысла и вместе с тем сложность планировки.
В большинстве своих проектов и сооружений Баженов выступал как крупнейший мастер раннего русского классицизма. Замечательным творением Баженова является дом Пашкова в Москве (ныне старое здание Государственной библиотеки им. В. И. Ленина). Это здание было построено в 1784—1787 годах. Сооружение дворцового типа, дом Пашкова (названный так по фамилии первого владельца) оказался решенным настолько совершенно, что и с точки зрения городского ансамбля и по своим высоким художественным достоинствам занял одно из первых мест среди памятников русской архитектуры.
Главный вход в здание был устроен со стороны парадного двора, где находилось несколько служебных построек дворца-усадьбы. Расположенный на холме, поднимающемся от Моховой улицы, дом Пашкова обращен своим главным фасадом в сторону Кремля. Основной архитектурный массив дворца составляет его центральный трехэтажный корпус, увенчанный легким бельведером. По обеим сторонам здания расположены два боковых двухэтажных корпуса. Центральный корпус дома Пашкова украшен колоннадой коринфского ордера, объединяющей второй и третий этажи. Боковые павильоны имеют гладкие колонны ионического ордера. Тонкая продуманность общей композиции и всех деталей сообщает этому сооружению необыкновенную легкость и вместе с тем значительность, монументальность. Подлинная гармония целого, изящество проработки деталей красноречиво свидетельствуют о гениальности его создателя.
Расположенный на холме, поднимающемся от Моховой улицы, дом Пашкова обращен своим главным фасадом в сторону Кремля. Основной архитектурный массив дворца составляет его центральный трехэтажный корпус, увенчанный легким бельведером. По обеим сторонам здания расположены два боковых двухэтажных корпуса. Центральный корпус дома Пашкова украшен колоннадой коринфского ордера, объединяющей второй и третий этажи. Боковые павильоны имеют гладкие колонны ионического ордера. Тонкая продуманность общей композиции и всех деталей сообщает этому сооружению необыкновенную легкость и вместе с тем значительность, монументальность. Подлинная гармония целого, изящество проработки деталей красноречиво свидетельствуют о гениальности его создателя.
Другим великим русским архитектором, работавшим одно время вместе с Баженовым, был Матвей Федорович Казаков (1738—1812). Уроженец Москвы, Казаков еще более тесно, чем Баженов, связал свою творческую деятельность с московским зодчеством. Попав тринадцати лет в школу Ухтомского, Казаков на практике постиг искусство архитектуры. Он не был ни в Академии художеств, ни за границей. С первой половины 1760-х гг. молодой Казаков уже работал в Твери, где по его проекту построен ряд зданий как жилого, так и общественного назначения.
Он не был ни в Академии художеств, ни за границей. С первой половины 1760-х гг. молодой Казаков уже работал в Твери, где по его проекту построен ряд зданий как жилого, так и общественного назначения.
В 1767 г. Казаков был приглашен Баженовым в качестве своего непосредственного помощника для проектирования ансамбля нового Кремлевского дворца.
Одно из самых ранних и вместе с тем наиболее значительных и известных сооружений Казакова — здание Сената в Москве (1776—1787). Здание Сената (в настоящее время здесь помещается Верховный Совет СССР) расположено внутри Кремля неподалеку от Арсенала. Треугольное в плане (с внутренними дворами), оно одним из фасадов обращено к Красной площади. Центральный композиционный узел здания — зал Сената, имеющий огромное по тому времени купольное перекрытие, диаметр которого достигает почти 25 м. Сравнительно скромное оформление здания снаружи контрастно сопоставлено с великолепным решением круглого парадного зала, имеющего три яруса окон, колоннаду коринфского ордера, кессонированный купол и богатую лепнину.
Следующее широко известное творение Казакова — здание Московского университета (1786—1793). На этот раз Казаков обратился к распространенному плану городской усадьбы в виде буквы П. В центре здания помещен актовый зал в форме полуротонды с купольным перекрытием. Первоначальный вид университета, построенного Казаковым, существенно разнится с тем наружным оформлением, которое придал ему Д. И. Жилярди, восстанавливавший университет после пожара Москвы 1812 года. Дорическая колоннада, рельефы и фронтон над портиком, эдикулы на торцах боковых крыльев и т. д.— всего этого не было в здании Казакова. Оно выглядело более высоким и не столь развернутым по фасаду. Главный фасад университета в 18 в. имел более стройную и легкую колоннаду портика (ионического ордера), стены здания расчленялись лопатками и филенками, торцы боковых крыльев здания имели ионические портики с четырьмя пилястрами и фронтоном.
Так же как и Баженов, Казаков иногда обращался в своем творчестве к традициям архитектуры Древней Руси, например в Петровском дворце, построенном в 1775—1782 гг. Кувшинообразные колонны, арки, оформление окон, висячие гирьки и т. п. вместе с красными кирпичными стенами и украшениями из белого камня явно перекликались с допетровской архитектурой.
Кувшинообразные колонны, арки, оформление окон, висячие гирьки и т. п. вместе с красными кирпичными стенами и украшениями из белого камня явно перекликались с допетровской архитектурой.
Однако большинство церковных сооружений Казакова — церковь Филиппа Митрополита, церковь Вознесения на Гороховской улице (ныне ул. Казакова) в Москве, церковь-мавзолей Барышникова (в селе Николо-Погорелом, Смоленской области) — решены не столько в плане древнерусских храмов, сколько в духе классически торжественных светских сооружений — ротонд. Особое место среди церковных построек Казакова занимает своеобразная по своему плану церковь Косьмы и Дамиана в Москве.
В произведениях Казакова большую роль играет скульптурное убранство. Разнообразные лепные украшения, тематические барельефы, круглые статуи и т. д. во многом способствовали высокой степени художественного оформления зданий, их праздничной торжественности и монументальности. Интерес к синтезу архитектуры и скульптуры проявился в последнем значительном сооружении Казакова — здании Голицынской больницы (ныне 1-я Градская больница) в Москве, постройка которой относится к 1796—1801 гг. Здесь Казаков уже близок к архитектурным принципам классицизма первой трети 19 в., о чем свидетельствуют спокойные глади стенных плоскостей, вытянутая вдоль улицы композиция здания и его флигелей, строгость и сдержанность общего архитектурного замысла.
Здесь Казаков уже близок к архитектурным принципам классицизма первой трети 19 в., о чем свидетельствуют спокойные глади стенных плоскостей, вытянутая вдоль улицы композиция здания и его флигелей, строгость и сдержанность общего архитектурного замысла.
Большой вклад внес Казаков в развитие усадебной архитектуры и архитектуры городского жилого особняка. Таковы отличающиеся ясной простотой композиции дом в Петровском-Алабине (закончен в 1785 г.) и прекрасный дом Губина в Москве (1790-е гг.).
Одним из наиболее одаренных и прославленных мастеров архитектуры второй половины 18 столетия был Иван Егорович Старой (1745—1808), имя которого связано со многими постройками Петербурга и провинции. Крупнейшим произведением Старова, если говорить о дошедших до нас сооружениях мастера, является Таврический дворец, выстроенный в 1783—1789 гг. в Петербурге.
Еще современники Старова высоко ценили этот дворец как отвечающий высоким требованиям подлинного искусства — он столь же прост и ясен по своему решению, сколь величав и торжествен. По решению внутренних помещений это не только жилой дворец-усадьба, но и резиденция, предназначенная для торжественных приемов, празднеств и увеселений. Центральная часть дворца выделена куполом и шестиколонным римско-дорическим портиком, расположенным в глубине широко открытого наружу парадного двора. Значительность центральной части здания оттеняется низкими одноэтажными боковыми крыльями дворца, оформление которых, так же как и боковых корпусов, очень строго. Торжественно решены внутренние помещения дворца. Расположенные прямо против входа гранитные и яшмовые колонны составляют в целом подобие внутренней триумфальной арки. Из вестибюля вошедшие попадали в монументально оформленный купольный зал дворца, а затем в так называемую Большую галерею с торжественной колоннадой, состоящей из тридцати шести колонн ионического ордера, поставленных в два ряда по обе стороны зала.
По решению внутренних помещений это не только жилой дворец-усадьба, но и резиденция, предназначенная для торжественных приемов, празднеств и увеселений. Центральная часть дворца выделена куполом и шестиколонным римско-дорическим портиком, расположенным в глубине широко открытого наружу парадного двора. Значительность центральной части здания оттеняется низкими одноэтажными боковыми крыльями дворца, оформление которых, так же как и боковых корпусов, очень строго. Торжественно решены внутренние помещения дворца. Расположенные прямо против входа гранитные и яшмовые колонны составляют в целом подобие внутренней триумфальной арки. Из вестибюля вошедшие попадали в монументально оформленный купольный зал дворца, а затем в так называемую Большую галерею с торжественной колоннадой, состоящей из тридцати шести колонн ионического ордера, поставленных в два ряда по обе стороны зала.
Даже после неоднократных перестроек и изменений внутри Таврического дворца, произведенных в последующее время, грандиозность замысла архитектора оставляет неизгладимое впечатление. В начале 1770-х гг. Старов назначается главным архитектором «Комиссии о каменном строении Петербурга и Москвы». Под его руководством разрабатывались также проекты планировки многих городов России.
В начале 1770-х гг. Старов назначается главным архитектором «Комиссии о каменном строении Петербурга и Москвы». Под его руководством разрабатывались также проекты планировки многих городов России.
Помимо Баженова, Казакова и Старова в то же самое время в России работает много других выдающихся архитекторов — как русских, так и приехавших из-за границы. Широкие строительные возможности, имевшиеся в России, привлекают крупных зарубежных мастеров, которые у себя на родине таких возможностей не находили.
Выдающимся мастером архитектуры, особенно дворцово-парковых сооружений, был шотландец по происхождению Чарльз Камерон (1740-е гг. — 1812).
В 1780—1786 гг. Камерон строит в Царском Селе комплекс садово-парковых сооружений, куда входят двухэтажный корпус Холодных бань с Агатовыми комнатами, висячий сад и, наконец, великолепная открытая галерея, носящая имя ее создателя. Камеронова галерея — одно из наиболее совершенных произведений архитектора. Поражает ее необычайная легкость и изящество пропорций; величественно и своеобразно решен лестничный спуск, фланкированный копиями с античных статуй Геркулеса и Флоры.
Камерон был искуснейшим мастером оформления интерьера. С безупречным вкусом и изысканностью разрабатывает он отделку нескольких помещений Большого Екатерининского дворца (спальня Екатерины II, см. илл., кабинет «Табакерка»), павильона «Агатовые комнаты», а также Павловского дворца (1782—1786) (Итальянский и Греческий залы, биллиардная и другие).
Огромную ценность представляет не только созданный Камероном дворец в Павловске, но и весь садово-парковый ансамбль. В отличие от более регулярной планировки и застройки знаменитого Петергофского парка ансамбле в Павловске является лучшим образцом «натурального» парка со свободно разбросанными павильонами. В живописнейшем пейзаже, среди рощ и полянок, у изгибающейся вокруг холмов реки Славянки расположены павильон — Храм Дружбы, открытая ротонда — Колоннада Аполлона, павильон Трех граций, обелиск, мостики и т. д.
Конец 18 в. в архитектуре России уже во многом предваряет следующий этап развития — зрелый классицизм первой трети 19 столетия, известный также под названием «русский ампир». Новые веяния заметны на примере творчества Джакомо Кваренги (1744—1817). Еще у себя на родине, в Италии, Кваренги увлекается палладианством и становится ревностным поборником классицизма. Не найдя должного применения своим силам в Италии, Кваренги приехал в Россию (1780), где и остался на всю жизнь.
Новые веяния заметны на примере творчества Джакомо Кваренги (1744—1817). Еще у себя на родине, в Италии, Кваренги увлекается палладианством и становится ревностным поборником классицизма. Не найдя должного применения своим силам в Италии, Кваренги приехал в Россию (1780), где и остался на всю жизнь.
Начав свою деятельность с работы в Петергофе и Царском Селе, Кваренги перешел к строительству крупнейших столичных сооружений. Созданные им Эрмитажный театр (1783—1787), здание Академии наук (1783—1789) и Ассигнационного банка (1783—1790) в Петербурге, а также Александровский дворец в Царском Селе (1792—1796) представляют собой строгие, классические по своему решению постройки, которые во многом уже предвещают следующий этап в развитии русской архитектуры. Собственно говоря, творческая деятельность Кваренги в России по времени почти поровну делится между 18 и 19 столетиями. Из наиболее известных сооружений Кваренги начала 19 в. выделяются здание больницы на Литейном проспекте, Аничков дворец, Конногвардейский манеж и деревянные Нарвские триумфальные ворота 1814 года.
Наиболее выдающимся творением Кваренги начала 19 в. является Смольный институт (1806—1808). В этом произведении видны характерные черты Кваренги как представителя зрелого классицизма в архитектуре: стремление к крупным и лаконичным архитектурным формам, использование монументальных портиков, акцентировка мощной цокольной части здания, обработанной крупной рустовкой, предельная ясность и простота планировки.
Архитектура эпохи Российской империи XVIII—начала XIX вв.
Цветовая среда городаС первых лет XVIII в. начинается новая эпоха в истории России и ее культуры. Это время связано с образованием абсолютистской монархии и развитием дворянского крепостнического государства. Преобразования Петра I превращают московское государство в Российскую империю. Отставание экономического развития России по сравнению со странами Запада тормозило развитие социальной и культурной сфер. В результате Северной войны Россия закрепилась на берегу Балтийского моря и стала налаживать контакты с западными странами. В этот период преобладающим становится гражданское строительство, строятся промышленные и портовые сооружения, правительственные и общественные здания, городские дворцы и загородные резиденции, уменьшается объем культового строительства. В становлении и развитии русской архитектуры XVIII в. большое значение имело основание Петербурга и его развитие как русского города нового типа с принципами регулярной планировки.
В этот период преобладающим становится гражданское строительство, строятся промышленные и портовые сооружения, правительственные и общественные здания, городские дворцы и загородные резиденции, уменьшается объем культового строительства. В становлении и развитии русской архитектуры XVIII в. большое значение имело основание Петербурга и его развитие как русского города нового типа с принципами регулярной планировки.
Архитектура этого периода делится на два этапа. Первый этап характеризуется становлением и расцветом русского барокко (первая половина и середина XVIII в.), второй этап — время развития классицизма (последняя треть XVII в. — первая треть XIX в.).
Строительство Петербурга велось на основе новых планировочных требований как новой столицы, являющейся важнейшей морской крепостью и одновременно торговым портом. Датой основания Петербурга является день закладки Петропавловской крепости (1703 г.) Она была построена на острове перед разветвлением Невы на два рукава и имела в плане форму вытянутого шестиугольника с бастионами по углам. Под прикрытием крепости был устроен торговый порт. В 1704 г., на левом материковом берегу Невы, была заложена судостроительная верфь, Адмиралтейство с дополнительными крепостными сооружениями. Первоначальные строения Адмиралтейства представляли собой мазанковые сараи. Для своего первого летнего дворца Петр выбрал богатый зеленью участок бывшего шведского поместья. Далее у Адмиралтейства строилась Морская слобода; на Петроградской стороне — слобода для военного гарнизона, для дворянства и торговцев; по берегу Невы строились дома для приближенных Петра.
Под прикрытием крепости был устроен торговый порт. В 1704 г., на левом материковом берегу Невы, была заложена судостроительная верфь, Адмиралтейство с дополнительными крепостными сооружениями. Первоначальные строения Адмиралтейства представляли собой мазанковые сараи. Для своего первого летнего дворца Петр выбрал богатый зеленью участок бывшего шведского поместья. Далее у Адмиралтейства строилась Морская слобода; на Петроградской стороне — слобода для военного гарнизона, для дворянства и торговцев; по берегу Невы строились дома для приближенных Петра.
К середине XVIII в. сдержанность архитектурных форм, характерная для каменных сооружений Петровского времени, сменилась стремлением к пышности и богатству. Архитектура этого периода определяется как «русское барокко», поскольку в формах и приемах заметно влияние западноевропейского барокко. Наиболее известными архитекторами этого стиля были В.В. Растрелли, сын известного итальянского скульптора, работавшего при дворе Петра I, Д.В. Ухтомский, С.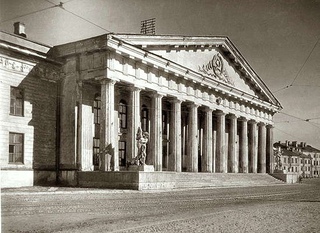 И. Чева- кинский. В соответствии с новыми вкусами и нормами придворной жизни прежняя сдержанность и плоскостная трактовка объемов зданий уступают место пластическому богатству и декоративной насыщенности фасадов и интерьеров. Характерными признаками барокко являются многочисленные уступы и раскреповки стен, декоративно трактованы ордера с раскрепованными антаблементами, разорванные фронтоны, по- разному сгруппированные колонны и пилястры, пышные наличники окон, вазы, скульптуры и другие декоративные украшения. В интерьерах широко используется живописный декор, заполняющий поверхности стен, потолков, с фигурными светильниками и зеркалами. С 1730 г. в Москве вновь разворачивается строительство каменных зданий. В Москве в этот период работал архитектор Д.В. Ухтомский, занимавшийся упорядочиванием застройки города и восстановлением обветшалых сооружений Московского Кремля. К числу выдающихся архитектурных произведений Ухтомского принадлежит колокольня Троице- Сергиева монастыря в Загорске, Триумфальные каменные Красные ворота, которые отмечали центр площади.
И. Чева- кинский. В соответствии с новыми вкусами и нормами придворной жизни прежняя сдержанность и плоскостная трактовка объемов зданий уступают место пластическому богатству и декоративной насыщенности фасадов и интерьеров. Характерными признаками барокко являются многочисленные уступы и раскреповки стен, декоративно трактованы ордера с раскрепованными антаблементами, разорванные фронтоны, по- разному сгруппированные колонны и пилястры, пышные наличники окон, вазы, скульптуры и другие декоративные украшения. В интерьерах широко используется живописный декор, заполняющий поверхности стен, потолков, с фигурными светильниками и зеркалами. С 1730 г. в Москве вновь разворачивается строительство каменных зданий. В Москве в этот период работал архитектор Д.В. Ухтомский, занимавшийся упорядочиванием застройки города и восстановлением обветшалых сооружений Московского Кремля. К числу выдающихся архитектурных произведений Ухтомского принадлежит колокольня Троице- Сергиева монастыря в Загорске, Триумфальные каменные Красные ворота, которые отмечали центр площади. Колокольня была начата архитекторами Шумахером и Мичуриным, но получила окончательное решение по проекту Ухтомского. Высота ее более 80 м, это характерная русская ярусная композиция. Развивая декоративные многоярусные композиции, характерные для русских церквей конца XVII в., Ухтомский вносит в них новое элементы строгой классической ордерной системы.
Колокольня была начата архитекторами Шумахером и Мичуриным, но получила окончательное решение по проекту Ухтомского. Высота ее более 80 м, это характерная русская ярусная композиция. Развивая декоративные многоярусные композиции, характерные для русских церквей конца XVII в., Ухтомский вносит в них новое элементы строгой классической ордерной системы.
В 1752—1757 гг. Растрелли перестроил и расширил Большой дворец в Царском селе. Перед Растрелли была поставлена задача создать загородную резиденцию, где грандиозность архитектуры сочеталась бы с великолепием наружного и внутреннего убранства.
Растрелли изменил композицию Квасова-Чевакинского, в отличие от прежнего дворца с центральным входом и планировкой здания симметричной к его поперечной оси, он ориентировал всю композицию дворца по длинной, продольной оси, ставшей теперь главной осью, по которой расположилась анфилада парадных помещений дворца. Царскосельский дворец отличался великолепием пластической и декоративной обработки. К дворцу примыкали регулярные сады.
К дворцу примыкали регулярные сады.
В Зимнем дворце (1754—1764 гг.) перед зодчим стояла другая задача: построить дворец, который по своему значению должен был господствовать в ансамбле столичного города. Растрелли запроектировал дворец в форме огромного прямоугольного замкнутого блока с внутренним парадным двором.
Здание Зимнего дворца оказало влияние на формирование центрального ансамбля столицы: гигантский по протяженности главный фасад дворца предопределил размеры Дворцовой площади, которая со временем была превращена в важнейший архитектурный ансамбль Петербурга.
Стиль барокко, характерный для периода дворянской империи при первых преемниках Петра I, не соответствовал экономическим возможностям мелкопоместного дворянства и купечества. В русской архитектуре 1760-х гг. начался переход к более строгим и регулярным классическим приемам. Идеи «гражданственности» и «просветительства», характерные для западного классицизма, распространились в различных слоях русского общества и в культуре России второй половины XVIII в. Основой метода классицизма стало обращение к античным принципам и приемам.
Основой метода классицизма стало обращение к античным принципам и приемам.
В 1828—1832 гг. Росси создал ансамбль здания Александринского театра и улицы зодчего Росси.
В Москве велись большие строительные работы под руководством О.И. Бове. Строились многочисленные жилые дома по специально разработанным проектам и общественные здания, в их числе Большой театр, сооруженный в 1821-1824 гг. по проекту А. Михайлова и О. Бове и перестроенный в 1853 г. после пожара.
В Москве работали также зодчие Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьев, построившие ряд городских домов-усадеб.
Дом-усадьба Найденовых (1829—1831 гг., арх. Д.И. Жилярди) — характерный пример подчинения композиции свободно спланированной городской усадьбы градостроительным требованиям: расположения главного фасада с высоко поднятым портиком ионического ордера на Красной линии Садового кольца.
Во многих провинциальных городах России также последовательно вводились принципы регулярной планировки и застройки, которые часто сочетались с традиционно живописными приемами композиции. С особым вниманием относились к формированию центров города, в которых сложились замечательные ансамбли: Тверь, Ярославль, Кострома и др.
С особым вниманием относились к формированию центров города, в которых сложились замечательные ансамбли: Тверь, Ярославль, Кострома и др.
ЕГЭ. История. Культура. Архитектура 18 века
Архитектура 18 века
Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Растрелли Б.Ф., 1754-1762
Особенности:
-
18 век – расцвет архитектуры в России.
-
Три основных направления: барокко, рококо и классицизм. В течение века происходил переход от барокко (нарышкинского и петровского) к классицизму второй половины 18 века.
-
Сочетание в архитектуре российских и западных традиций, Нового времени и Средневековья.
-
В данный период создано большое количество архитектурных зданий, которые сегодня являются культурным наследием России.
-
Основным строительным центром стал Санкт-Петербург.
 Здесь было построено множество дворцов с фасадами и парадными сооружениями, возведены дворцово-парковые ансамбли в Петергофе.
Здесь было построено множество дворцов с фасадами и парадными сооружениями, возведены дворцово-парковые ансамбли в Петергофе.
-
Строились промышленные, общественные здания, верфи, заводы, коллегии, театры и др., то есть господствовала гражданская архитектура.
-
Начался переход к плановой застройке городов.
-
Приглашались голландские, итальянские, французские и немецкие мастера.
-
Во второй половине 18 века дворцово-парковые постройки возводились не только в столичных, но и в губернских и уездных городах.
Баженов В.И.(1738-1799)
Дом Пашкова, Баженов В.И., Москва, 1784-1786, классицизм. Ныне – Российская государственная библиотека.
Москва, дворцовый ансамбль в Царицыно, Баженов В. И., ( совместно с М.Казаковым),1775.
И., ( совместно с М.Казаковым),1775.
Фигурный мост, Баженов В.И., Царицыно.
Хлебный дом, Баженов В.И., Царицыно.
Оперный дом, Баженов В.И., Царицыно.
Виноградная гроздь в арочных воротах, Баженов В.И., Царицыно
Казаков М.Ф.(1738-1812)
Старое здание МГУ, Казаков М.Ф., 1782 – 1793
Дом-усадьба Демидова, Казаков М.Ф., Москва, 1757 – начало строительства
Голицынская (Градская)больница.К азаков м.Ф., 1796-1801
Здание Сената в Москве, Казаков М.Ф., Москва, Казаков М.Ф, 1776-1787
Генерал-губернаторский дом( сегодня- мэрия Москвы). Казаков М.Ф., 1782
Здание Благородного собрания, Казаков м.Ф., сейчас — Дом союзов, Москва, 1775
Кваренги Джакомо (1744-1817)
Концертный зал в Царском Селе. Кваренги Д., 1782-1788
Кваренги Д., 1782-1788
Александровский дворец в Царском Селе, Кваренги Д., 1792-1796
Эрмитажный театр, Кваренги Д., Санкт-Петербург, 783-1787
Смольный институт в Петербурге, Кваренги Д.,1764
Конногвардейский манеж, Санкт-Петербург, Кваренги Д., 1804-1807
Старый гостиный двор, Кваренги Д., Москва, 1790
Растреллли Б.Ф.(1700-1771)
Смольный монастырь, Растрелли Б.Ф., Санкт-Петербург, (1748-1754)
Зимний дворец в Петербурге, Растрелли Б.Ф., 1754-1762
Екатерининский дворец в Царском Селе, Растрелли Б.Ф.
(1752-1757)
Фельтен Ю.М.(1730-1801)
Малый Эрмитаж, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М., 1764-1766
Большой Эрмитаж, Санкт-Петербург, Фельтен Ю. М.,71-1787
М.,71-1787
Церковь Святой Екатерины на Васильевском острове, Фельтен Ю.М., Санкт-Петербург,1768-1771
Лютеранская церковь Святой Анны, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М.., 1775-1779
Чесменская церковь, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М..,1777-1780
Чесменский дворец, Санкт-Петербург, Фельтен Ю.М.., 1774-1777
Церковь Иоанна Предтечи на Каменском острове. Фельтен Ю.М.., Санкт-Петербург, 1776-1778
Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна
Архитектура России XVIII – первой трети XIX в курсовая по строительству
Оглавление Введение 1. Строительные приемы и конструкции 1.1 Кирпичные, деревянные и каменные строительные конструкции 1.2 Чугунные, железные строительные конструкции 2. Архитектура первой половины и середины 18 в 2.1 Архитектура первой трети 18 в 2.2 Архитектура середины 18 в 3. Архитектура последней трети 18 – первой трети 19 в 3. 1 Классицизм 3.2 Архитектурные композиции Заключение Список использованной литературы Введение Эпоха 18 – первой трети 19 в. в России – время позднего феодализма, связанного с образованием абсолютистской монархии и развитием дворянского крепостнического государства. Это период развития капиталистических мануфактур и формирования в недрах феодализма буржуазных отношений. Отставание экономического развития России по сравнения с передовыми западными странами тормозило общий социальный и культурный прогресс, в связи с чем с начала 18 столетия последовали коренные преобразования, направленные на ускорение развития странны. Приобрели особое значение разносторонние связи с Западом и освоение европейского опыта. В результате Северной войны петровская Русь закрепилась на берегу Балтийского моря и стала на путь интенсивных контактов с западными странами, входя в русло общеевропейского развития. В архитектуре, как и во всей культуре страны, петровские преобразования сказались прежде всего в резком сближении национального зодчества с характерными для Запада стилистическими направлениями в строительстве с 1703 г.
1 Классицизм 3.2 Архитектурные композиции Заключение Список использованной литературы Введение Эпоха 18 – первой трети 19 в. в России – время позднего феодализма, связанного с образованием абсолютистской монархии и развитием дворянского крепостнического государства. Это период развития капиталистических мануфактур и формирования в недрах феодализма буржуазных отношений. Отставание экономического развития России по сравнения с передовыми западными странами тормозило общий социальный и культурный прогресс, в связи с чем с начала 18 столетия последовали коренные преобразования, направленные на ускорение развития странны. Приобрели особое значение разносторонние связи с Западом и освоение европейского опыта. В результате Северной войны петровская Русь закрепилась на берегу Балтийского моря и стала на путь интенсивных контактов с западными странами, входя в русло общеевропейского развития. В архитектуре, как и во всей культуре страны, петровские преобразования сказались прежде всего в резком сближении национального зодчества с характерными для Запада стилистическими направлениями в строительстве с 1703 г. новой столицы – Петербурга, куда переместился центр архитектурной деятельности. Комплексный градостроительный подход к застройке новой столице и других городов стал характерной чертой архитектуры, высшим достижением которой явились всемирно известные ансамбли Петербурга, Москвы и других городов России. В связи с тем, что реформы Петра и его преемников были направлены главным образом на укрепление экономического и политического положения русского дворянства и купечества, основными заказчиками крупных зданий и комплексов были, по мимо царского двора и государственных сановников, дворяне и представители нарождающейся буржуазии. Важной чертой социального и идеологического развития эпохи было заметное снижение в жизни общества роли церкви и усиление светского, государственного начала, в связи с чем наблюдается относительное уменьшение объёмов культового строительства, резкое увеличение удельного 1. Строительные приемы и конструкции 1.1 Кирпичные, деревянные и каменные строительные конструкции Основными строительными материалами в архитектуре 18 – первой половины 19 в.
новой столицы – Петербурга, куда переместился центр архитектурной деятельности. Комплексный градостроительный подход к застройке новой столице и других городов стал характерной чертой архитектуры, высшим достижением которой явились всемирно известные ансамбли Петербурга, Москвы и других городов России. В связи с тем, что реформы Петра и его преемников были направлены главным образом на укрепление экономического и политического положения русского дворянства и купечества, основными заказчиками крупных зданий и комплексов были, по мимо царского двора и государственных сановников, дворяне и представители нарождающейся буржуазии. Важной чертой социального и идеологического развития эпохи было заметное снижение в жизни общества роли церкви и усиление светского, государственного начала, в связи с чем наблюдается относительное уменьшение объёмов культового строительства, резкое увеличение удельного 1. Строительные приемы и конструкции 1.1 Кирпичные, деревянные и каменные строительные конструкции Основными строительными материалами в архитектуре 18 – первой половины 19 в.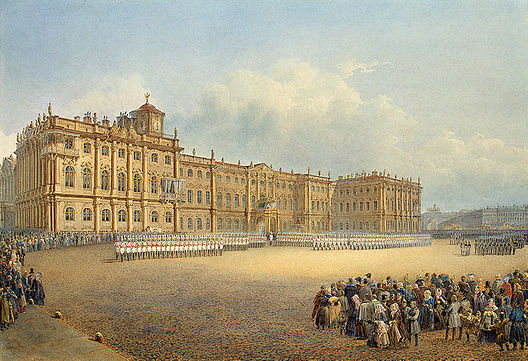 оставались дерево и кирпич. Массовым типом деревянных конструкций продолжали быть срубные, но использовались и каркасные. Широкое применение деревянный каркас нашел в застройке Петербурга и Москвы первой четверти 18 в., когда развивалось так называемое «мазанковое» строительство домов с глиняным заполнением каркаса, раскрашивавшихся снаружи под каменные строения. Использование дерева в несущей конструкции с последующей штукатуркой и отделкой «под камень» продолжалось в зданиях второй половины 18 – начала 19 в., а после 1812 г. этот приём получил особенно широкое распространение в архитектуре Москвы и других городов. Дерево широко применялось и в каменных зданиях в конструкциях перекрытий и стропильных крыш. Вытеснение плоскими деревянными перекрытиями каменных сводчатых – общая тенденция, характерная для 18 – первой трети 19 в. Каменные конструкции применялись при возведении стен и фундаментов, в виде сводчатого перекрытия нижних этажей. Основной материал – кирпич. Белый камень различной твёрдости использовался в облицовке стен, для архитектурных деталей и в элементах зданий, испытывающих наиболее сильные нагрузки или подверженных частым увлажнениям (фундаменты, цоколи, перемычки, колонны и т.
оставались дерево и кирпич. Массовым типом деревянных конструкций продолжали быть срубные, но использовались и каркасные. Широкое применение деревянный каркас нашел в застройке Петербурга и Москвы первой четверти 18 в., когда развивалось так называемое «мазанковое» строительство домов с глиняным заполнением каркаса, раскрашивавшихся снаружи под каменные строения. Использование дерева в несущей конструкции с последующей штукатуркой и отделкой «под камень» продолжалось в зданиях второй половины 18 – начала 19 в., а после 1812 г. этот приём получил особенно широкое распространение в архитектуре Москвы и других городов. Дерево широко применялось и в каменных зданиях в конструкциях перекрытий и стропильных крыш. Вытеснение плоскими деревянными перекрытиями каменных сводчатых – общая тенденция, характерная для 18 – первой трети 19 в. Каменные конструкции применялись при возведении стен и фундаментов, в виде сводчатого перекрытия нижних этажей. Основной материал – кирпич. Белый камень различной твёрдости использовался в облицовке стен, для архитектурных деталей и в элементах зданий, испытывающих наиболее сильные нагрузки или подверженных частым увлажнениям (фундаменты, цоколи, перемычки, колонны и т. п.). Кирпичные стены в связи с переходом от сводчатых перекрытий к плоским, не вызывающим распорных усилий, стали значительно тоньше и легче, чему способствовало также повышение качества кирпича и раствора. В течении 18 – первой трети 19 в., как и в предшествующем столетии, в России использовались три основных способа кладки стен: крестовая, тычковая и цепная. В первой половине 19 в. получили практическое применение способы облегченной кладки с внутренними пустотами. Одним из основных зачинателей был Антон Гегард, построивший в 1820-1830-х годах этим способом ряд домов. В середине века появилась кладка из эффективной пустотелой керамики. Размеры кирпичей колебались. В первой половине 18 в. был введен единый для всей страны размер кирпича: мм в сырце, однако в самом Петербурге использовался более тонкий кирпич. В 1811 г. «Реестром урочным» были введены новые размеры: мм в сырце. Вместе с введением стандарта на кирпич во второй половине 18 – 19 вв. наблюдается унификация форм и размеров белокаменных изделий.
п.). Кирпичные стены в связи с переходом от сводчатых перекрытий к плоским, не вызывающим распорных усилий, стали значительно тоньше и легче, чему способствовало также повышение качества кирпича и раствора. В течении 18 – первой трети 19 в., как и в предшествующем столетии, в России использовались три основных способа кладки стен: крестовая, тычковая и цепная. В первой половине 19 в. получили практическое применение способы облегченной кладки с внутренними пустотами. Одним из основных зачинателей был Антон Гегард, построивший в 1820-1830-х годах этим способом ряд домов. В середине века появилась кладка из эффективной пустотелой керамики. Размеры кирпичей колебались. В первой половине 18 в. был введен единый для всей страны размер кирпича: мм в сырце, однако в самом Петербурге использовался более тонкий кирпич. В 1811 г. «Реестром урочным» были введены новые размеры: мм в сырце. Вместе с введением стандарта на кирпич во второй половине 18 – 19 вв. наблюдается унификация форм и размеров белокаменных изделий. Если стены имели русты, то их обычно делали в кирпиче с выступом кладки из плоскости стены на ¼ кирпича. Проёмы в стенах перекрывались кирпичными арками или перемычками в зависимости от величины пролёта и архитектурно-художественного замысла. Для зданий последней трети 18 – первой трети 19 в. характерны ордерные портики, каменные колонны которые чаще всего выкладывались из белого известняка или кирпича. В связи с большими сосредоточенными нагрузками кладка колонн осуществлялась особенно тщательно. По оси колонны скреплялись металлическими стержнями с заливкой сердечника гипсом или известковым раствором. Кирпичные колонны всегда штукатурились. Применялись колонны из деревянных стволов с последующей штукатуркой или отделкой под мрамор. Деревянная конструкция колонн Колонного зала (бывш. Благородного собрания) состоит из четырёх связанных друг с другом металлическими болтами деревянных стоек диаметром 27 – 30 см, заключенных в обручи и обшитых досками, по которым наметан слой штукатурки с отделкой искусственным мрамором.
Если стены имели русты, то их обычно делали в кирпиче с выступом кладки из плоскости стены на ¼ кирпича. Проёмы в стенах перекрывались кирпичными арками или перемычками в зависимости от величины пролёта и архитектурно-художественного замысла. Для зданий последней трети 18 – первой трети 19 в. характерны ордерные портики, каменные колонны которые чаще всего выкладывались из белого известняка или кирпича. В связи с большими сосредоточенными нагрузками кладка колонн осуществлялась особенно тщательно. По оси колонны скреплялись металлическими стержнями с заливкой сердечника гипсом или известковым раствором. Кирпичные колонны всегда штукатурились. Применялись колонны из деревянных стволов с последующей штукатуркой или отделкой под мрамор. Деревянная конструкция колонн Колонного зала (бывш. Благородного собрания) состоит из четырёх связанных друг с другом металлическими болтами деревянных стоек диаметром 27 – 30 см, заключенных в обручи и обшитых досками, по которым наметан слой штукатурки с отделкой искусственным мрамором.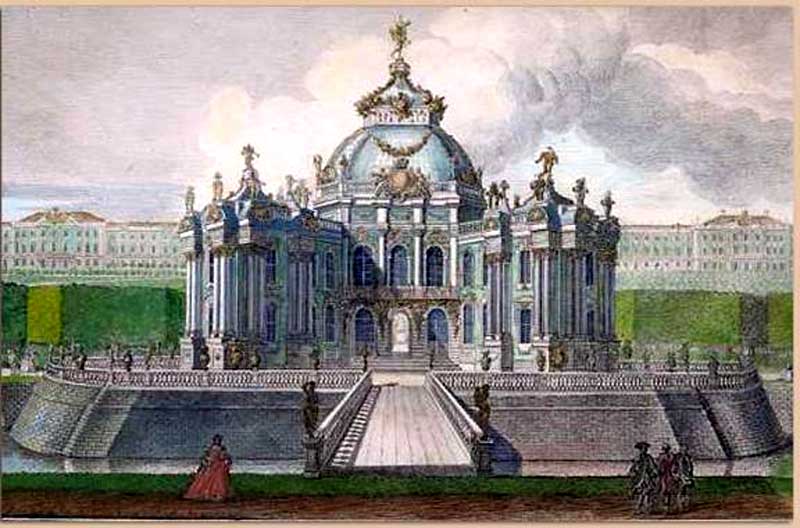 Антаблементы – наиболее сложные конструктивные элементы портиков. По материалам они делятся на пять основных видов: кирпичные, кирпичные с белокаменными прокладками, белокаменные с кирпичным фризом, полностью белокаменные и частично деревянные. Сложной задачей было обеспечение прочности антаблемента с учётом возникающих в нём изгибающих усилий. В нижней растянутой части использовались металлические связи, уложенные в нижней плоскости архитрава, а иногда и в толще конструкции. Широко применялись разгрузочные арки из кирпича, выкладывавшегося над пролётами в зоне фриза или архитрава. Белокаменные архитравы делались над пролётами в виде прямой клинчатой перемычки с разгрузочной аркой над ней (дом Луниных в Москве). Антаблемент скреплялся с колоннами металлическими стержнями. Арматура использовалась также для крепления выносной части карниза, капителей колонн и других элементов портика. Армокаменные конструкции стен, садов, колонн и балочных перекрытий получили широкое развитие. Применение в каменной кладке металла позволило возводить более тонкие стены, облегчить своды и увеличить расстояния между опорами.
Антаблементы – наиболее сложные конструктивные элементы портиков. По материалам они делятся на пять основных видов: кирпичные, кирпичные с белокаменными прокладками, белокаменные с кирпичным фризом, полностью белокаменные и частично деревянные. Сложной задачей было обеспечение прочности антаблемента с учётом возникающих в нём изгибающих усилий. В нижней растянутой части использовались металлические связи, уложенные в нижней плоскости архитрава, а иногда и в толще конструкции. Широко применялись разгрузочные арки из кирпича, выкладывавшегося над пролётами в зоне фриза или архитрава. Белокаменные архитравы делались над пролётами в виде прямой клинчатой перемычки с разгрузочной аркой над ней (дом Луниных в Москве). Антаблемент скреплялся с колоннами металлическими стержнями. Арматура использовалась также для крепления выносной части карниза, капителей колонн и других элементов портика. Армокаменные конструкции стен, садов, колонн и балочных перекрытий получили широкое развитие. Применение в каменной кладке металла позволило возводить более тонкие стены, облегчить своды и увеличить расстояния между опорами. Каменные, возводимые по кружалам своды, использовались различных типов: цилиндрические и коробовые, различные виды сомкнутых и крестовых сводов, парусные и парусно-сомкнутые и др. Особое значение приобрёл купол, нашедший широкое применение в строительстве многочисленных залов. Купол здания Сената с одинарной кирпичной оболочкой перекрывает пролёт 24,6 м, а толщина купола (27 см) составляет 1/81 часть перекрываемого пролёта. Такая поражавшая современников лёгкость конструкции свидетельствует о глубоком понимании зодчим М. Казаковым законов распределения усилий в сферической оболочке: удачно избрано очертание купола, приближающееся к параболе; на уровне карниза массивный световой барабан, прорезанный 24 окнами, армирован металлическими стержнями и связан с кладкой купола рядом поперечных ребровых стенок, повышающих жесткость опорного кольца .Купол церкви Голицынской больницы того же зодчего пролётом 17,5 м имеет конструкцию с двумя независимыми кирпичными оболочками. В вершине внутреннего купола устроено круглое отверстие (диаметр 4,45 м), через которое видна покрытый медными золочеными листами, соединёнными с главным коническим куполом системой железных связей.
Каменные, возводимые по кружалам своды, использовались различных типов: цилиндрические и коробовые, различные виды сомкнутых и крестовых сводов, парусные и парусно-сомкнутые и др. Особое значение приобрёл купол, нашедший широкое применение в строительстве многочисленных залов. Купол здания Сената с одинарной кирпичной оболочкой перекрывает пролёт 24,6 м, а толщина купола (27 см) составляет 1/81 часть перекрываемого пролёта. Такая поражавшая современников лёгкость конструкции свидетельствует о глубоком понимании зодчим М. Казаковым законов распределения усилий в сферической оболочке: удачно избрано очертание купола, приближающееся к параболе; на уровне карниза массивный световой барабан, прорезанный 24 окнами, армирован металлическими стержнями и связан с кладкой купола рядом поперечных ребровых стенок, повышающих жесткость опорного кольца .Купол церкви Голицынской больницы того же зодчего пролётом 17,5 м имеет конструкцию с двумя независимыми кирпичными оболочками. В вершине внутреннего купола устроено круглое отверстие (диаметр 4,45 м), через которое видна покрытый медными золочеными листами, соединёнными с главным коническим куполом системой железных связей. Развитие производства ковкого железа позволило с начала 19 в. всё шире использовать этот материал. Внешний купол Казанского собора в Петербурге (1801-1811 гг., архит. А. Н. Воронихин) диаметром 17,7 м является первой в России значительной по размерам пространственной системой, выполненной целиком из железа в сочетании с двумя кирпичными куполами нижней части конструкции. Оригинальную решетчатую систему, составленную из многочисленных железных стержней, представляет конструкция куполов Троицкого собора в Петербурге (1827-1835 гг., архит. В. П. Стасов) диаметром 11,55 м. Возведение шпилей с начала 18 в. стало одной из актуальных задач строительства (Меньшикова башня в Москве, 1701-1707 гг.; Петропавловский собор , 1712-1733 гг., и Адмиралтейство, 1727-1738 гг., в Петербурге и др.). Гигантские деревянные шпили представляли собой смелые строительные конструкции. Сохранившийся до нас шпиль Адмиралтейства – сложная пространственная конструкция, основанная на восьми- и четырёх–гранном в плане решетчатом деревянном каркасе, нижняя часть которого заключена в стены башни.
Развитие производства ковкого железа позволило с начала 19 в. всё шире использовать этот материал. Внешний купол Казанского собора в Петербурге (1801-1811 гг., архит. А. Н. Воронихин) диаметром 17,7 м является первой в России значительной по размерам пространственной системой, выполненной целиком из железа в сочетании с двумя кирпичными куполами нижней части конструкции. Оригинальную решетчатую систему, составленную из многочисленных железных стержней, представляет конструкция куполов Троицкого собора в Петербурге (1827-1835 гг., архит. В. П. Стасов) диаметром 11,55 м. Возведение шпилей с начала 18 в. стало одной из актуальных задач строительства (Меньшикова башня в Москве, 1701-1707 гг.; Петропавловский собор , 1712-1733 гг., и Адмиралтейство, 1727-1738 гг., в Петербурге и др.). Гигантские деревянные шпили представляли собой смелые строительные конструкции. Сохранившийся до нас шпиль Адмиралтейства – сложная пространственная конструкция, основанная на восьми- и четырёх–гранном в плане решетчатом деревянном каркасе, нижняя часть которого заключена в стены башни. Не менее смелой была деревянная конструкция шпиля Петропавловского собора, имевшая высоту от основания до яблока 45 м. Шпиль простоял без повреждения более 100 лет. Заменивший его в 1856 г. металлический шпиль, возведенный по проекту выдающегося русского инженера Д. И. Журавского, развил достижения предшественников на основе нового материала – железа. Его сложная конструкция высотой 48,5 м (вместе с яблоком и фигурой 56,43 м) представляет собой восьмигранную усеченную пирамиду, состоящую из рёбер, колец и диагональных связей в плоскостях пирамиды. Шпиль рассчитывался характерным для того времени приближенным методом как консольная балка. 2. Архитектура первой половины и середины 18 в. (здания и архитектурные ансамбли) 2.1 Архитектура первой трети 18 в Архитектура первой трети 18 в. связана более всего с застройкой Петербурга, основанного Петром 1 в 1703 г. Указом царя с 1714 г. было приостановлено возведение каменных зданий в Москве и других городах России. Основные ресурсы были сосредоточенны на строительстве новой столицы, являющейся одновременно важнейшей морской крепостью и торговым портом.
Не менее смелой была деревянная конструкция шпиля Петропавловского собора, имевшая высоту от основания до яблока 45 м. Шпиль простоял без повреждения более 100 лет. Заменивший его в 1856 г. металлический шпиль, возведенный по проекту выдающегося русского инженера Д. И. Журавского, развил достижения предшественников на основе нового материала – железа. Его сложная конструкция высотой 48,5 м (вместе с яблоком и фигурой 56,43 м) представляет собой восьмигранную усеченную пирамиду, состоящую из рёбер, колец и диагональных связей в плоскостях пирамиды. Шпиль рассчитывался характерным для того времени приближенным методом как консольная балка. 2. Архитектура первой половины и середины 18 в. (здания и архитектурные ансамбли) 2.1 Архитектура первой трети 18 в Архитектура первой трети 18 в. связана более всего с застройкой Петербурга, основанного Петром 1 в 1703 г. Указом царя с 1714 г. было приостановлено возведение каменных зданий в Москве и других городах России. Основные ресурсы были сосредоточенны на строительстве новой столицы, являющейся одновременно важнейшей морской крепостью и торговым портом. Близ устья Невы у её разветвления на два рукава были возведены бастионы Петропавловской крепости; на противоположном берегу строилась судостроительная верфь, названная Адмиралтейством. Застройка велась активно и на Васильевском острове, между двумя рукавами Невы; царские дворцы и резиденции сановников расположились вдоль реки на адмиралтейской стороне выше верфи. Застройка набережных у разветвления реки на Большую Неву и Малую Неву стала основной последующего формирования ансамблей центра столицы. В градостроительстве соблюдались принципы регулярности планировки и застройки наряду с развитием древнерусских композиционных принципов. С целью предания улицам и площадкам единообразия и представительности было предписано застраивать город только каменными зданиями и глинобитными с деревянным каркасом «мазанками», раскрашенными под камень. Застройка велась по «образцовым» проектам, ряд которых был разработан ведущим архитектором петровского времени – Доменико Трезини. Было предусмотрено три основных типа домов – «для именитых», «для зажиточных» и «для подлых», различавшихся по занимаемой площади, этажности и удобствам.
Близ устья Невы у её разветвления на два рукава были возведены бастионы Петропавловской крепости; на противоположном берегу строилась судостроительная верфь, названная Адмиралтейством. Застройка велась активно и на Васильевском острове, между двумя рукавами Невы; царские дворцы и резиденции сановников расположились вдоль реки на адмиралтейской стороне выше верфи. Застройка набережных у разветвления реки на Большую Неву и Малую Неву стала основной последующего формирования ансамблей центра столицы. В градостроительстве соблюдались принципы регулярности планировки и застройки наряду с развитием древнерусских композиционных принципов. С целью предания улицам и площадкам единообразия и представительности было предписано застраивать город только каменными зданиями и глинобитными с деревянным каркасом «мазанками», раскрашенными под камень. Застройка велась по «образцовым» проектам, ряд которых был разработан ведущим архитектором петровского времени – Доменико Трезини. Было предусмотрено три основных типа домов – «для именитых», «для зажиточных» и «для подлых», различавшихся по занимаемой площади, этажности и удобствам. Дома имели плоские регулярные фасады с чётким ритмом окон, обработанных наличниками. Двухэтажные дома «для именитых» иногда расчленились пилястрами, углы обрабатывались рустом. По типу богатых домов «для именитых» построен Летний дворец Петра 1 в Петербурге (1710 – 1714 гг.) архитекторами Д. Трезини, А. Шлютером, Н. Микетти, М. Земцовым. Строившиеся в Петербурге первой трети 18 в. общественные и культовые здания отличались четкостью членения и сравнительной простотой фасадов. Пилястры, филенки, рустованные вертикали, наличники и местами вводимые живописные элементы фронтов, люнет и картушей составляли основу выразительных средств. Известный рационализм пластической разработки фасадов сочетался с декоративными элементами и приёмами, характерными для барокко. Ордерные членения использовались широко, но, как правило, ордер на фасадах получал декоративно- плоскостную трактовку в виде одинарных или «наложенных» одна на другую пилястр с раскрепованным, антаблементом. Вместе с тем иногда ордер трактовался и более строго, по-классически «конструктивно» («Зал торжествований», 1725 г.
Дома имели плоские регулярные фасады с чётким ритмом окон, обработанных наличниками. Двухэтажные дома «для именитых» иногда расчленились пилястрами, углы обрабатывались рустом. По типу богатых домов «для именитых» построен Летний дворец Петра 1 в Петербурге (1710 – 1714 гг.) архитекторами Д. Трезини, А. Шлютером, Н. Микетти, М. Земцовым. Строившиеся в Петербурге первой трети 18 в. общественные и культовые здания отличались четкостью членения и сравнительной простотой фасадов. Пилястры, филенки, рустованные вертикали, наличники и местами вводимые живописные элементы фронтов, люнет и картушей составляли основу выразительных средств. Известный рационализм пластической разработки фасадов сочетался с декоративными элементами и приёмами, характерными для барокко. Ордерные членения использовались широко, но, как правило, ордер на фасадах получал декоративно- плоскостную трактовку в виде одинарных или «наложенных» одна на другую пилястр с раскрепованным, антаблементом. Вместе с тем иногда ордер трактовался и более строго, по-классически «конструктивно» («Зал торжествований», 1725 г. , архит. М. Земцов). Участие в застройке Петербурга архитекторов – иностранцев различных архитектурных школ сказалось в разнообразии применявшихся приёмов и неоднородности стилевых качеств. Среди крупных общественных зданий, построенных в Петербурге в 1720 – 30-х годах, следует отметить Петропавловский собор (1712 – 1733 гг., архит. Д. Трезини), здание главного научного учреждения – Кунсткамеры (1718 – 1734 гг., архитекторы И. Маттарнович, Г. Киавери, М. Земцов), здание Двенадцати коллегий (1722 – 1742 гг., архит. Д. Трезини) и др. Новые принципы дворцово-паркового ансамбля получили наиболее яркое выражение в строительстве Петергофа, в котором дворец и регулярно распланированный «французский» парк были дополнены уникальной системой фонтанов, включенных в общую композицию ансамбля вместе с многочисленными павильонами и скульптурами. Строительство Петербурга 20 – 30-х годов 18 в. в большой степени было связано с именами М. Г. Земцова, П. М. Еропкина и И. К. Коробова – русских зодчих, выдвинувшихся в петровское время и значительно повлиявших на дальнейшее развитие архитектуры.
, архит. М. Земцов). Участие в застройке Петербурга архитекторов – иностранцев различных архитектурных школ сказалось в разнообразии применявшихся приёмов и неоднородности стилевых качеств. Среди крупных общественных зданий, построенных в Петербурге в 1720 – 30-х годах, следует отметить Петропавловский собор (1712 – 1733 гг., архит. Д. Трезини), здание главного научного учреждения – Кунсткамеры (1718 – 1734 гг., архитекторы И. Маттарнович, Г. Киавери, М. Земцов), здание Двенадцати коллегий (1722 – 1742 гг., архит. Д. Трезини) и др. Новые принципы дворцово-паркового ансамбля получили наиболее яркое выражение в строительстве Петергофа, в котором дворец и регулярно распланированный «французский» парк были дополнены уникальной системой фонтанов, включенных в общую композицию ансамбля вместе с многочисленными павильонами и скульптурами. Строительство Петербурга 20 – 30-х годов 18 в. в большой степени было связано с именами М. Г. Земцова, П. М. Еропкина и И. К. Коробова – русских зодчих, выдвинувшихся в петровское время и значительно повлиявших на дальнейшее развитие архитектуры. Их деятельность не взаимосвязаны в целостную и гармоничную композицию, объединившую исторически сложившийся архитектурный ансамбль. Одновременно с Ухтомским в строительстве Москвы середины столетия принимали деятельное участие талантливые архитекторы Алексей Евлашев, Иван Жеребцов, Василий Яковлев и др., внесшие большой вклад в развитие русской архитектуры этого периода. Ведущим мастером русской архитектуры середины 18 в. был В. В. Растрелли (1700 – 1771). Его творчество сформировалось под воздействием русской культуры и традиций национального зодчества. Самостоятельную деятельность Растрелли начал с постройки в 1730-х годах в Москве дворцово-паркового комплекса – Анненгофа. Расцвет творчества относится к концу 1740-х – 1750-х годам, когда были созданы лучшие его дворцовые здания: дворцы Воронцова, Строганова и Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Царском Селе. В Андреевской церкви в Киеве (1747 – 1753 гг.) и соборе Смольного монастыря в Петербурге Растрелли решил характерными для барокко пластическими средствами традиционно-русскую задачу создания центрической пятикупольной композиции храма во взаимосвязи с природой и конкретной градостроительной ситуацией.
Их деятельность не взаимосвязаны в целостную и гармоничную композицию, объединившую исторически сложившийся архитектурный ансамбль. Одновременно с Ухтомским в строительстве Москвы середины столетия принимали деятельное участие талантливые архитекторы Алексей Евлашев, Иван Жеребцов, Василий Яковлев и др., внесшие большой вклад в развитие русской архитектуры этого периода. Ведущим мастером русской архитектуры середины 18 в. был В. В. Растрелли (1700 – 1771). Его творчество сформировалось под воздействием русской культуры и традиций национального зодчества. Самостоятельную деятельность Растрелли начал с постройки в 1730-х годах в Москве дворцово-паркового комплекса – Анненгофа. Расцвет творчества относится к концу 1740-х – 1750-х годам, когда были созданы лучшие его дворцовые здания: дворцы Воронцова, Строганова и Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Царском Селе. В Андреевской церкви в Киеве (1747 – 1753 гг.) и соборе Смольного монастыря в Петербурге Растрелли решил характерными для барокко пластическими средствами традиционно-русскую задачу создания центрической пятикупольной композиции храма во взаимосвязи с природой и конкретной градостроительной ситуацией. С особым размахом эта задача решалась мастером в петербургском комплексе. Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764 гг.) – квадратная в плане пространственная композиция с собором в центре, четырьмя малыми церквами по углам и сплошной обстройкой участка жилыми корпусами – размещен в излучине Невы на пути следования по реке к центру столицы. Важное градостроительное значение ансамбля во многом определило масштаб и характер архитектуры: его огромные размеры и крупные членения, центричность и строгую соподчиненность объёмов при ведущем значении монолитного по своим массам собора. Монументальность собора сочетается с богатой и живописной пластикой; основными организующими элементами являются двухъярусные ордерные устои из парных колонн и пилястр. С помощью контрастного соотношения масс и ордерных устоев нижней и верхней части создаётся образ, полный динамики и вертикальной устремлённости. В центрическом построении собора и общей уравновешенности ансамбля чувствуются классическое начало и связь с древнерусскими композициями.
С особым размахом эта задача решалась мастером в петербургском комплексе. Ансамбль Смольного монастыря (1748 – 1764 гг.) – квадратная в плане пространственная композиция с собором в центре, четырьмя малыми церквами по углам и сплошной обстройкой участка жилыми корпусами – размещен в излучине Невы на пути следования по реке к центру столицы. Важное градостроительное значение ансамбля во многом определило масштаб и характер архитектуры: его огромные размеры и крупные членения, центричность и строгую соподчиненность объёмов при ведущем значении монолитного по своим массам собора. Монументальность собора сочетается с богатой и живописной пластикой; основными организующими элементами являются двухъярусные ордерные устои из парных колонн и пилястр. С помощью контрастного соотношения масс и ордерных устоев нижней и верхней части создаётся образ, полный динамики и вертикальной устремлённости. В центрическом построении собора и общей уравновешенности ансамбля чувствуются классическое начало и связь с древнерусскими композициями. Организующая градостроительная основа построенных Растрелли в Петербурге зданий четко выражена и в расположенном в углу Невского проспекта и набережной Мойки дворце Строганова, имеющем два различных по композиции, обращенных к этим улицам фасада, и особенно в композиции фасадов центрального здания столицы – Зимнего дворца. Постройкой Зимнего дворца (1754 – 1764 гг.) – резиденции царского дворца в Петербурге – Растрелли закрепил ведущее значение в формировании ансамбля городского центра набережной Невы и положил начало образованию системы центральных площадей. В зависимости от организуемых городских пространств фасады дворца получили различную композицию. Со стороны Невы собранные на флангах фасада двухъярусные ордерные устои образуют мощные крупномасштабные «колоннады», соответствующие своим характером, масштабом и протяженными пропорциями пространству Невы. С противоположной стороны, где были предусмотрены главный подъезд ко дворцу и площадь, фасад имеет строго осевое построение с динамическими нарастающими к центру ритмом ордерных акцентов.
Организующая градостроительная основа построенных Растрелли в Петербурге зданий четко выражена и в расположенном в углу Невского проспекта и набережной Мойки дворце Строганова, имеющем два различных по композиции, обращенных к этим улицам фасада, и особенно в композиции фасадов центрального здания столицы – Зимнего дворца. Постройкой Зимнего дворца (1754 – 1764 гг.) – резиденции царского дворца в Петербурге – Растрелли закрепил ведущее значение в формировании ансамбля городского центра набережной Невы и положил начало образованию системы центральных площадей. В зависимости от организуемых городских пространств фасады дворца получили различную композицию. Со стороны Невы собранные на флангах фасада двухъярусные ордерные устои образуют мощные крупномасштабные «колоннады», соответствующие своим характером, масштабом и протяженными пропорциями пространству Невы. С противоположной стороны, где были предусмотрены главный подъезд ко дворцу и площадь, фасад имеет строго осевое построение с динамическими нарастающими к центру ритмом ордерных акцентов. Осевая композиция фасада предопределила характер будущей Дворцовой площади: главная ось позднее была закреплена Триумфальной аркой здания главного штаба и Александровской колонной. Большой дворец в Царском Селе (1752 – 1757 гг.) – создавался как доминирующий объём загородного дворцово-паркового ансамбля. Вытянутое на 300 м здание, включающее в себя анфиладу торжественных залов и парадных помещений, разделило обширный регулярный парк на две части: основную восточную – Старый сад, и западную, со стороны парадного двора – Новы сад. Регулярный характер парков, в облике которых стремились создать «русский Версаль», подчеркивался сооружением павильонов, гротов, мостов и т. п., фигурной подстрижкой деревьев, геометрически правильным рисунком боскетов, газонов, площадок и водных пространств. Архитектура дворца отличается пышностью и великолепием. Вытянутые фасады фланкируются вертикалями церквей, из которых северная пятикупольная ориентирована на подъездную дорогу. В трактовке ордерных устоев, как и во всей пластической разработке фасадов, чувствуется свобода от более строгих, регламентирующих условий города, желание максимально насытить фасады скульптурной пластикой и одновременно придать зданию специфически загородный, открытый к природе характер.
Осевая композиция фасада предопределила характер будущей Дворцовой площади: главная ось позднее была закреплена Триумфальной аркой здания главного штаба и Александровской колонной. Большой дворец в Царском Селе (1752 – 1757 гг.) – создавался как доминирующий объём загородного дворцово-паркового ансамбля. Вытянутое на 300 м здание, включающее в себя анфиладу торжественных залов и парадных помещений, разделило обширный регулярный парк на две части: основную восточную – Старый сад, и западную, со стороны парадного двора – Новы сад. Регулярный характер парков, в облике которых стремились создать «русский Версаль», подчеркивался сооружением павильонов, гротов, мостов и т. п., фигурной подстрижкой деревьев, геометрически правильным рисунком боскетов, газонов, площадок и водных пространств. Архитектура дворца отличается пышностью и великолепием. Вытянутые фасады фланкируются вертикалями церквей, из которых северная пятикупольная ориентирована на подъездную дорогу. В трактовке ордерных устоев, как и во всей пластической разработке фасадов, чувствуется свобода от более строгих, регламентирующих условий города, желание максимально насытить фасады скульптурной пластикой и одновременно придать зданию специфически загородный, открытый к природе характер. Богатейшие лепные украшения, фигуры атлантов, кронштейны, гирлянды, декоративная скульптура на постаментах балюстрады вызолоченной крыши дополняли эффект красочного контраста белых колонн и яркого по цвету поля стены. Интерьеры также блистали красочным великолепием и декоративным богатством. Основное значение в отделки интерьеров имела деревянная резьба: картуши, валюты, гирлянды цветов, фигуры амуров, резные обрамление дверей и окон и т. п. Выделяется обширный и залитый светом Тронный зал, обработанный в простенках зеркалами и золоченой резьбой. Структурно-тектоническая основа здания в значительной степени подчинилась декоративному началу, стремлению создать архитектурно- пластическими средствами впечатление пышности и богатства, подчеркнуто живописной динамики форм и иллюзорного пространства. В городских дворцовых постройках нашла отражение трёхчастная композиция, характерная для складывающегося в 18 в. типа дворца-усадьбы (дворец Воронцова в Петербурге, 1749 – 1757 гг.). Наряду с Растрелли в Петербурге и других городах середины 18 в.
Богатейшие лепные украшения, фигуры атлантов, кронштейны, гирлянды, декоративная скульптура на постаментах балюстрады вызолоченной крыши дополняли эффект красочного контраста белых колонн и яркого по цвету поля стены. Интерьеры также блистали красочным великолепием и декоративным богатством. Основное значение в отделки интерьеров имела деревянная резьба: картуши, валюты, гирлянды цветов, фигуры амуров, резные обрамление дверей и окон и т. п. Выделяется обширный и залитый светом Тронный зал, обработанный в простенках зеркалами и золоченой резьбой. Структурно-тектоническая основа здания в значительной степени подчинилась декоративному началу, стремлению создать архитектурно- пластическими средствами впечатление пышности и богатства, подчеркнуто живописной динамики форм и иллюзорного пространства. В городских дворцовых постройках нашла отражение трёхчастная композиция, характерная для складывающегося в 18 в. типа дворца-усадьбы (дворец Воронцова в Петербурге, 1749 – 1757 гг.). Наряду с Растрелли в Петербурге и других городах середины 18 в. работали замечательные русские зодчие, среди которых особенно выделяются С. И. Чевакинский, построивший Никольский Военно-морской собор в Петербурге (1753 – 1762 гг.), и А. В. Квасов, лучшая постройка которого – собор в Козельце (1751 – 1763 гг.). Несмотря на богатую пластику и обилие декора, композиции русского барокко отличаются целостностью объёмного построения и ясностью основных членений. Стена в большинстве случаев остаётся тектонической основой, с которой контрастно сочетаются раскрепованные ордерные устои – архитектурные ансамбли, градостроительство) 3.1 Классицизм В русской архитектуре 1760-х годов наметился перелом к более строгим и регулярным классическим принципам. Формировался новый стиль – классицизм, переживший в России две стадии: классицизм последней трети 18 – начала 19 в. и классицизм первой трети 19 в. Во второй половине 18 в. в хозяйственной жизни страны товарные отношения не только стали перерастать в отношения капиталистические, но и постепенно начали вытеснять крепостнические формы труда.
работали замечательные русские зодчие, среди которых особенно выделяются С. И. Чевакинский, построивший Никольский Военно-морской собор в Петербурге (1753 – 1762 гг.), и А. В. Квасов, лучшая постройка которого – собор в Козельце (1751 – 1763 гг.). Несмотря на богатую пластику и обилие декора, композиции русского барокко отличаются целостностью объёмного построения и ясностью основных членений. Стена в большинстве случаев остаётся тектонической основой, с которой контрастно сочетаются раскрепованные ордерные устои – архитектурные ансамбли, градостроительство) 3.1 Классицизм В русской архитектуре 1760-х годов наметился перелом к более строгим и регулярным классическим принципам. Формировался новый стиль – классицизм, переживший в России две стадии: классицизм последней трети 18 – начала 19 в. и классицизм первой трети 19 в. Во второй половине 18 в. в хозяйственной жизни страны товарные отношения не только стали перерастать в отношения капиталистические, но и постепенно начали вытеснять крепостнические формы труда. Вместе с тем усиливалась эксплуатация труда крепостных, следствием чего были народные волнения, вылившиеся в грозную крестьянскую войну под предводительством Е. Пугачёва. В передовых кругах русского общества назревал протест против неограниченного самодержавного произвола, против роскоши и излишеств придворных и дворянских кругов. В этих условиях идеалы рационалистической философии с тяготением к порядку и умеренности, ясности и разумности всё более проникают в искусство и архитектуру. Идеи «гражданственности» и «просветительства», характерные для западного классицизма, находят в культуре России второй половины 18 в. благоприятную почву. Обращение к античным принципам и приемам стало основной метода классицизма. Освоение классики шло по двум основным каналам: путём непосредственного знакомства с античными и путём изучения «преломлённой» классики, т. е. архитектуры европейских примеров эпох Ренессанса и классицизма. Большое значение имело также распространение классических трактатов. Важную роль сыграло теоретическое и практическое наследие Андреа Палладио.
Вместе с тем усиливалась эксплуатация труда крепостных, следствием чего были народные волнения, вылившиеся в грозную крестьянскую войну под предводительством Е. Пугачёва. В передовых кругах русского общества назревал протест против неограниченного самодержавного произвола, против роскоши и излишеств придворных и дворянских кругов. В этих условиях идеалы рационалистической философии с тяготением к порядку и умеренности, ясности и разумности всё более проникают в искусство и архитектуру. Идеи «гражданственности» и «просветительства», характерные для западного классицизма, находят в культуре России второй половины 18 в. благоприятную почву. Обращение к античным принципам и приемам стало основной метода классицизма. Освоение классики шло по двум основным каналам: путём непосредственного знакомства с античными и путём изучения «преломлённой» классики, т. е. архитектуры европейских примеров эпох Ренессанса и классицизма. Большое значение имело также распространение классических трактатов. Важную роль сыграло теоретическое и практическое наследие Андреа Палладио. Архитектура русского классицизма, следуя общеевропейским стилевым принципам, во многом основывалась и на собственной классической традиции, в той или иной степени характерной для предшествующих периодов зодчества. Национальные традиции в сочетании с особенностями культуры и жизненного уклада России обусловили своеобразные черты развития русского архитектурного классицизма. Наряду с городскими постройками в этот период огромных масштабов достигает загородное строительство. Особенно способствовало этому освобождение дворян от обязательной государственной службы. Широкое развитие получил новый тип расположенного среди парка дворца-усадьбы. Развитие государственных институтов и рост городов требовали строительства разнообразных казенных учреждений, торговых, хозяйственных и производственных зданий. Формировалась и новая планировочная структура городов. В последней трети 18 – первой трети 19 в. в России были проведены беспрецедентные по масштабам работы по перепланировке и реконструкции городов.
Архитектура русского классицизма, следуя общеевропейским стилевым принципам, во многом основывалась и на собственной классической традиции, в той или иной степени характерной для предшествующих периодов зодчества. Национальные традиции в сочетании с особенностями культуры и жизненного уклада России обусловили своеобразные черты развития русского архитектурного классицизма. Наряду с городскими постройками в этот период огромных масштабов достигает загородное строительство. Особенно способствовало этому освобождение дворян от обязательной государственной службы. Широкое развитие получил новый тип расположенного среди парка дворца-усадьбы. Развитие государственных институтов и рост городов требовали строительства разнообразных казенных учреждений, торговых, хозяйственных и производственных зданий. Формировалась и новая планировочная структура городов. В последней трети 18 – первой трети 19 в. в России были проведены беспрецедентные по масштабам работы по перепланировке и реконструкции городов. Уже с 60-х годов началась грандиозная работа по составлению новых планов. Было разработано и утверждено более 400 проектов перепланировки русских городов. В основу планов был заложен принцип строгой регулярности общей схемы площадей и улиц. Обстройка улиц и площадей велась строго по красной линии, в основном по «образцовым» проектам. В наиболее ответственных местах города – в центре, на крупных площадях и т. п. – создавались ансамбли общественных и дворцовых зданий, строившихся по индивидуальным проектам. Город рассматривался как целостная и регулярная пространственная композиция, в которой преемственно сочетались новые принципы планировки и застройки с древними архитектурными доминантами. Широкий градостроительный подход к архитектурным зданиям сказывался и на проектировании отдельных зданий, на их общем композиционном строе и тектонике. Четкие грани объёмов зданий, освобождённые от сложной пластики и живописного декора, подчеркивали регулярность городских пространств, их геометрическую, линейно- плоскостную структуру.
Уже с 60-х годов началась грандиозная работа по составлению новых планов. Было разработано и утверждено более 400 проектов перепланировки русских городов. В основу планов был заложен принцип строгой регулярности общей схемы площадей и улиц. Обстройка улиц и площадей велась строго по красной линии, в основном по «образцовым» проектам. В наиболее ответственных местах города – в центре, на крупных площадях и т. п. – создавались ансамбли общественных и дворцовых зданий, строившихся по индивидуальным проектам. Город рассматривался как целостная и регулярная пространственная композиция, в которой преемственно сочетались новые принципы планировки и застройки с древними архитектурными доминантами. Широкий градостроительный подход к архитектурным зданиям сказывался и на проектировании отдельных зданий, на их общем композиционном строе и тектонике. Четкие грани объёмов зданий, освобождённые от сложной пластики и живописного декора, подчеркивали регулярность городских пространств, их геометрическую, линейно- плоскостную структуру. Особое значение приобретала главный фасад, организующий пространство улицы и площади. В тектонике зданий фасадная плоскость стены стала основой зрительного впечатления о «конструктивности» композиции. Обычно оштукатуренная стена, ритмично члененная проемами, делилась по высоте на рустованную цокольную часть и основную верхнюю, которая иногда расчленялась горизонтальными поясками, чаще всего в убывающих кверху пропорциях, что подчеркивало «конструктивность» стены, её постепенное облегчение. Строгие по рисунку прямоугольные наличники, создающие жесткую оправу проёмов, зрительно увеличивая значение стены. Основу фасадов и интерьеров образовывала ордерная композиция. Ордеру придается особое значение в тектонической характеристики зданий. Полный трёхчастный ордер, образующий портики, лоджии, галереи и колоннады, обретает реальную конструктивность как классическая стоечно- балочная система с колоннами, несущими антаблемент и выше лежащие нагрузки. Наряду с этим используется приём зрительной «конструктивности» ордера, когда выступающие из стены пилястры или полуколонны как бы образуют в толще стены ордерный «каркас», зрительно контрастирующий на фасаде с массивом стены.
Особое значение приобретала главный фасад, организующий пространство улицы и площади. В тектонике зданий фасадная плоскость стены стала основой зрительного впечатления о «конструктивности» композиции. Обычно оштукатуренная стена, ритмично члененная проемами, делилась по высоте на рустованную цокольную часть и основную верхнюю, которая иногда расчленялась горизонтальными поясками, чаще всего в убывающих кверху пропорциях, что подчеркивало «конструктивность» стены, её постепенное облегчение. Строгие по рисунку прямоугольные наличники, создающие жесткую оправу проёмов, зрительно увеличивая значение стены. Основу фасадов и интерьеров образовывала ордерная композиция. Ордеру придается особое значение в тектонической характеристики зданий. Полный трёхчастный ордер, образующий портики, лоджии, галереи и колоннады, обретает реальную конструктивность как классическая стоечно- балочная система с колоннами, несущими антаблемент и выше лежащие нагрузки. Наряду с этим используется приём зрительной «конструктивности» ордера, когда выступающие из стены пилястры или полуколонны как бы образуют в толще стены ордерный «каркас», зрительно контрастирующий на фасаде с массивом стены.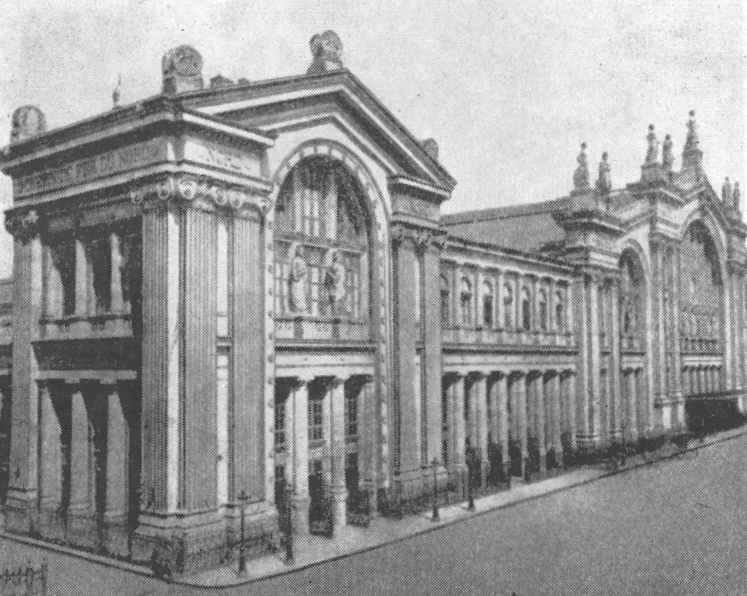 Наконец, широко применяются ордерные и другие классические элементы без вертикальных членений в виде венчающих здание карнизов и полных антаблементов, промежуточных поясков, фронтонов, сандриков и т. п. Все эти элементы компонуются в строгой ордерной соразмерности, соответствующей зрительно-конструктивной логике. Среди крупных мастеров времени становления русского архитектурного классицизма выделяется архитектор А. Ф. Кокоринов (1728 – 1772), ученик Ухтомского, возглавивший организованную в Петербурге в 1750-х годах Академию художеств. По его же проекту совместно с архитектором Ж. Б. Вален-Деламотом было построено здание Академии художеств в Петербурге (1764 – 1788 гг.) – пример крупного общественного здания, в котором в значительной мере уже сложились принципы классицизма. развернутым фронтом переход к саду. Фасады отличаются лаконизмом и строгостью, что нашло отражение в пуритански простой трактовке стен, прорезанных окнами без наличников. Эти же черты нашли отражение в простоте и строгости ордерной композиции: и главный, и боковые портики фасада разработаны с применением простого римско-дорического ордера.
Наконец, широко применяются ордерные и другие классические элементы без вертикальных членений в виде венчающих здание карнизов и полных антаблементов, промежуточных поясков, фронтонов, сандриков и т. п. Все эти элементы компонуются в строгой ордерной соразмерности, соответствующей зрительно-конструктивной логике. Среди крупных мастеров времени становления русского архитектурного классицизма выделяется архитектор А. Ф. Кокоринов (1728 – 1772), ученик Ухтомского, возглавивший организованную в Петербурге в 1750-х годах Академию художеств. По его же проекту совместно с архитектором Ж. Б. Вален-Деламотом было построено здание Академии художеств в Петербурге (1764 – 1788 гг.) – пример крупного общественного здания, в котором в значительной мере уже сложились принципы классицизма. развернутым фронтом переход к саду. Фасады отличаются лаконизмом и строгостью, что нашло отражение в пуритански простой трактовке стен, прорезанных окнами без наличников. Эти же черты нашли отражение в простоте и строгости ордерной композиции: и главный, и боковые портики фасада разработаны с применением простого римско-дорического ордера. Влияние трехчастного типа усадебного дома распространялось и на общественные здания, среди которых выделяются здания Смольного института в Петербурге (1805 – 1809 гг., архит. Д. Кваренги), ставшее в 1917 г. штабом Великой Октябрьской революции, а также здание Голицынской больницы в Москве (1796 – 1801 гг., архит. М. Казаков). Последнее, повторяя схему усадебного дворца, отличается исключительной ясностью композиции, благородной простотой форм и пластичной мягкостью стенового массива. Римско-дорический портик и возвышающийся над ним высокий купол больничной церкви создают мощный объёмный и ордерный акцент, по обе стороны от купола располагались женская и мужская половины больницы. Парадному дворцу перед главным фасадом по другую сторону здания отвечал парк, спускающийся по склону к Москве-реке. В условиях города композиция дворцовых зданий часто изменялась в соответствии с регламентирующими требованиями и значениями места, отведенного для постройки. М. Казаков, широко используя приём трёхчастной композиции в постройках Москвы, часто отказывался от курдонера и, спрямляя линию главного фасада, следовал регулярным градостроительным правилам (дом Демидова в Гороховском пер.
Влияние трехчастного типа усадебного дома распространялось и на общественные здания, среди которых выделяются здания Смольного института в Петербурге (1805 – 1809 гг., архит. Д. Кваренги), ставшее в 1917 г. штабом Великой Октябрьской революции, а также здание Голицынской больницы в Москве (1796 – 1801 гг., архит. М. Казаков). Последнее, повторяя схему усадебного дворца, отличается исключительной ясностью композиции, благородной простотой форм и пластичной мягкостью стенового массива. Римско-дорический портик и возвышающийся над ним высокий купол больничной церкви создают мощный объёмный и ордерный акцент, по обе стороны от купола располагались женская и мужская половины больницы. Парадному дворцу перед главным фасадом по другую сторону здания отвечал парк, спускающийся по склону к Москве-реке. В условиях города композиция дворцовых зданий часто изменялась в соответствии с регламентирующими требованиями и значениями места, отведенного для постройки. М. Казаков, широко используя приём трёхчастной композиции в постройках Москвы, часто отказывался от курдонера и, спрямляя линию главного фасада, следовал регулярным градостроительным правилам (дом Демидова в Гороховском пер. , 1780-е годы; дом Губина на Петровке, 1790-е годы, и др.). Наряду с этим использовались и более свободные по группировке объёмы, которые нередко живописно сочетались с древними градостроительными доминантами. Синтез регулярного нового с живописным старым – один из ведущих принципов формирования зданий и ансамблей Москвы и других городов конца 18 – начала 19 в. Дом Пашкова в Москве (1784 – 1786 гг., архит. В. Баженов) – пример трехчастной дворцовой композиции, в большей мере сказалось важное градостроительное значение отведенного для постройки участка: здание возвышается напротив Кремля, организуя участок Моховой улицы у её поворота к каменному мосту. Главный объём и флигели расположены строго вдоль улицы, а парадный подъезд устроен с противоположной стороны. Центрический главный объём, обработанный с четырёх сторон пилястрами композиционного ордера, целостность и ясность своих форм отвечает кремлевским постройкам и был связан композиционно с другими окружавшими его ранее древними зданиями.
, 1780-е годы; дом Губина на Петровке, 1790-е годы, и др.). Наряду с этим использовались и более свободные по группировке объёмы, которые нередко живописно сочетались с древними градостроительными доминантами. Синтез регулярного нового с живописным старым – один из ведущих принципов формирования зданий и ансамблей Москвы и других городов конца 18 – начала 19 в. Дом Пашкова в Москве (1784 – 1786 гг., архит. В. Баженов) – пример трехчастной дворцовой композиции, в большей мере сказалось важное градостроительное значение отведенного для постройки участка: здание возвышается напротив Кремля, организуя участок Моховой улицы у её поворота к каменному мосту. Главный объём и флигели расположены строго вдоль улицы, а парадный подъезд устроен с противоположной стороны. Центрический главный объём, обработанный с четырёх сторон пилястрами композиционного ордера, целостность и ясность своих форм отвечает кремлевским постройкам и был связан композиционно с другими окружавшими его ранее древними зданиями. При всей регулярности его классическая композиция неотъемлема от древне-московских градостроительных традиций центрического здания. Центрические композиции – круглые, квадратные и прямоугольные в плане, завершаемые обычно куполом или бельведером, в архитектуре русского классицизма находят большое развитие. В этих формах зодчие классицизма стремились найти «идеальную» в своей гармонической завершенности композицию, воскресить дух античности, классики. Наряду с дворцовыми зданиями, эти композиции особенно широко использовались в культовых, мемориальных и парковых постройках. Павильон «Храм Дружбы», сооруженный в Павловском парке (1780 – 1782 гг., архит. Ч. Камерон), — пример максимального приближения этого типа зданий к античным образцам. Ротонда окружена греко-дорической колоннадой, придающей пронизанному пространством зданию монументальность и стройность. «Храм Дружбы органично вписался в пейзаж естественного парка, который к концу 18 в. всё более вытеснял в усадьбах и загородных резиденциях регулярный парк.
При всей регулярности его классическая композиция неотъемлема от древне-московских градостроительных традиций центрического здания. Центрические композиции – круглые, квадратные и прямоугольные в плане, завершаемые обычно куполом или бельведером, в архитектуре русского классицизма находят большое развитие. В этих формах зодчие классицизма стремились найти «идеальную» в своей гармонической завершенности композицию, воскресить дух античности, классики. Наряду с дворцовыми зданиями, эти композиции особенно широко использовались в культовых, мемориальных и парковых постройках. Павильон «Храм Дружбы», сооруженный в Павловском парке (1780 – 1782 гг., архит. Ч. Камерон), — пример максимального приближения этого типа зданий к античным образцам. Ротонда окружена греко-дорической колоннадой, придающей пронизанному пространством зданию монументальность и стройность. «Храм Дружбы органично вписался в пейзаж естественного парка, который к концу 18 в. всё более вытеснял в усадьбах и загородных резиденциях регулярный парк. Ротонда с кольцом ордерной колоннады стала излюбленной формой интерьеров (Сенат в Московском Кремле, церковь Голицынской больницы и т. д.). Круглые и прямоугольные торжественные колоннады, сплошные или фрагментарные, образуют тип характерный для классицизма праздничного зала. Колонный зал бывш. Благородного собрания (Дома Союзов), построенный М. Казаковым в 1780-х годах,– один из лучших образцов этого типа. Эго облицованная белым мрамором коринфская колоннада со всех четырёх сторон окружает зал, что в сочетании с люстрами и зеркалами на стенах создаёт праздничный, но изысканно-строгий интерьер. 3.2 Архитектурные композиции В архитектуре первой трети 19 в. принципы классицизма получают дальнейшее развитие. Распространение патриотических и освободительных идей в русском обществе способствует укреплению национального самосознания, определению самобытных путей развития стиля. Русские зодчие в этот период в первую очередь решают широкие ансамблевые задачи в масштабе города, его центра, основных городских звеньев.
Ротонда с кольцом ордерной колоннады стала излюбленной формой интерьеров (Сенат в Московском Кремле, церковь Голицынской больницы и т. д.). Круглые и прямоугольные торжественные колоннады, сплошные или фрагментарные, образуют тип характерный для классицизма праздничного зала. Колонный зал бывш. Благородного собрания (Дома Союзов), построенный М. Казаковым в 1780-х годах,– один из лучших образцов этого типа. Эго облицованная белым мрамором коринфская колоннада со всех четырёх сторон окружает зал, что в сочетании с люстрами и зеркалами на стенах создаёт праздничный, но изысканно-строгий интерьер. 3.2 Архитектурные композиции В архитектуре первой трети 19 в. принципы классицизма получают дальнейшее развитие. Распространение патриотических и освободительных идей в русском обществе способствует укреплению национального самосознания, определению самобытных путей развития стиля. Русские зодчие в этот период в первую очередь решают широкие ансамблевые задачи в масштабе города, его центра, основных городских звеньев. Возрастает идейное значение архитектуры. Ансамбли и здания часто рассматриваются как выражение триумфальных идей победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Ордер во многих случаях приобретает особую монументальность, в связи с чем более широкое распространение получает греко-дорический ордер. Возрастает значение скульптурной пластики, причем в изображениях и орнаменте преобладает триумфальная тематика, символизирующая победу русского оружия, прославляющее русское государство. Укрупняются формы и растут масштабы архитектурных композиций. Наиболее крупные замыслы зодчих были связанны с формированием ансамблей центра и важнейших градостроительных узлов Петербурга, а также с восстановлением и реконструкцией Москвы после пожара в 1812 г. Широким фронтом велась и реконструкция многих губернских и уездных городов России. В начале столетия ведущими петербургскими зодчими были А. Н. Воронихин (1759 – 1814) и А. Д. Захаров (1761 – 1811). В архитектуре 1820 – 1830-х годов особая заслуга в застройке Петербурга принадлежит К.
Возрастает идейное значение архитектуры. Ансамбли и здания часто рассматриваются как выражение триумфальных идей победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. Ордер во многих случаях приобретает особую монументальность, в связи с чем более широкое распространение получает греко-дорический ордер. Возрастает значение скульптурной пластики, причем в изображениях и орнаменте преобладает триумфальная тематика, символизирующая победу русского оружия, прославляющее русское государство. Укрупняются формы и растут масштабы архитектурных композиций. Наиболее крупные замыслы зодчих были связанны с формированием ансамблей центра и важнейших градостроительных узлов Петербурга, а также с восстановлением и реконструкцией Москвы после пожара в 1812 г. Широким фронтом велась и реконструкция многих губернских и уездных городов России. В начале столетия ведущими петербургскими зодчими были А. Н. Воронихин (1759 – 1814) и А. Д. Захаров (1761 – 1811). В архитектуре 1820 – 1830-х годов особая заслуга в застройке Петербурга принадлежит К. И. Росси (1775 – 1849) и В.П. Стасову (1769 – 1848). В Москве послевоенного периода выделялись архитекторы О. И. Бове (1784 – 1834), Д. И. Жилярди (1788 – 1845) и А. Г. Григорьев (1782 – 1868). Тот же принцип объединения здания в единую композицию с торжественной аркой в центре, переброшенной через улицу, Росси использовал в здании Сената и Синода в Петербурге (1829 – 1834 гг.), замыкающем Сенатскую площадь со стороны, противоположной боковому фасаду Адмиралтейства. Ранее поставленный в середине площади динамичный монумент Петра 1 подчеркивает ориентацию ансамбля в сторону Невы. Эта ось была также закреплена постановкой в глубине площади гигантского по величине Исаакиевского собора (1818 – 1858 гг., архит. А. А. Монферран) – купольного здания высотой 101,52 м с четырьмя крупными коринфскими портиками (высота колонн 17,04 м) и круглой колоннадой купола (диаметр купола 21,83 м), ставшего доминантой в застройке города. Вершина целостной градостроительной задачи – ансамбль Театральной улицы (ныне ул.
И. Росси (1775 – 1849) и В.П. Стасову (1769 – 1848). В Москве послевоенного периода выделялись архитекторы О. И. Бове (1784 – 1834), Д. И. Жилярди (1788 – 1845) и А. Г. Григорьев (1782 – 1868). Тот же принцип объединения здания в единую композицию с торжественной аркой в центре, переброшенной через улицу, Росси использовал в здании Сената и Синода в Петербурге (1829 – 1834 гг.), замыкающем Сенатскую площадь со стороны, противоположной боковому фасаду Адмиралтейства. Ранее поставленный в середине площади динамичный монумент Петра 1 подчеркивает ориентацию ансамбля в сторону Невы. Эта ось была также закреплена постановкой в глубине площади гигантского по величине Исаакиевского собора (1818 – 1858 гг., архит. А. А. Монферран) – купольного здания высотой 101,52 м с четырьмя крупными коринфскими портиками (высота колонн 17,04 м) и круглой колоннадой купола (диаметр купола 21,83 м), ставшего доминантой в застройке города. Вершина целостной градостроительной задачи – ансамбль Театральной улицы (ныне ул. Зодчего Росси в Петербурге, получившей название по имени её создателя). Построенный в 1828 – 1834 гг. по единому замыслу зодчего, ансамбль включает помимо улицы, образованной двумя торжественными административными корпусами, полукруглую открытую к реке Фонтанке площадь Ломоносова, обстроенную трехэтажными корпусами, здание Александринского театра, ориентированное по оси улицы Росси, и примыкающую к Невскому проспекту обширную площадь перед театром, ограниченную по бокам зданием Публичной библиотеке и павильонами Аничкова дворца. Четкое регулярное построение пространства и единая тема фасадов – ордер на арочном основании цокольного этажа – объединяют здания. Различная разработка ордеров, разнообразие объёмных и пространственных решений, а также особый характер каждого из пространств придают основным звеньям ансамбля индивидуальный облик. Благодаря тесной композиционной связи с магистралями города – Невским проспектом и набережной Фонтанки – ансамбль стал органической частью целостной пространственной системы Петербурга.
Зодчего Росси в Петербурге, получившей название по имени её создателя). Построенный в 1828 – 1834 гг. по единому замыслу зодчего, ансамбль включает помимо улицы, образованной двумя торжественными административными корпусами, полукруглую открытую к реке Фонтанке площадь Ломоносова, обстроенную трехэтажными корпусами, здание Александринского театра, ориентированное по оси улицы Росси, и примыкающую к Невскому проспекту обширную площадь перед театром, ограниченную по бокам зданием Публичной библиотеке и павильонами Аничкова дворца. Четкое регулярное построение пространства и единая тема фасадов – ордер на арочном основании цокольного этажа – объединяют здания. Различная разработка ордеров, разнообразие объёмных и пространственных решений, а также особый характер каждого из пространств придают основным звеньям ансамбля индивидуальный облик. Благодаря тесной композиционной связи с магистралями города – Невским проспектом и набережной Фонтанки – ансамбль стал органической частью целостной пространственной системы Петербурга. В ансамблевой застройке города помимо крупных парадных зданий всё большее значение в первой половине 19 в. стали приобретать отдельные здания и сооружения торгового, производственного, складского и прочего утилитарного назначения, которым иногда отводилась весьма значительная роль в градостроительной композиции. Примерами могут служить построенные по проектам В. П. Стасова Провиантские склады в Москве (проект 1821 г.) и здание придворных конюшен (1817 – 1823 гг.), возведенное неподалеку от Дворцовой площади в Петербурге у впадения в р. Мойку Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова). Сравнительно низкое и протяженное здание имеет замкнуто-периметральную композицию, монументальные фасады которой строятся на сочетании мощной стены и крупномасштабного дорического ордера. Каждый фасад индивидуален в соответствии с характером организуемого городского пространства. В «островном» построении здания, активно взаимодействующего с городскими пространствами, зодчий в какой-то степени следовал древним московским принципам градостроительства.
В ансамблевой застройке города помимо крупных парадных зданий всё большее значение в первой половине 19 в. стали приобретать отдельные здания и сооружения торгового, производственного, складского и прочего утилитарного назначения, которым иногда отводилась весьма значительная роль в градостроительной композиции. Примерами могут служить построенные по проектам В. П. Стасова Провиантские склады в Москве (проект 1821 г.) и здание придворных конюшен (1817 – 1823 гг.), возведенное неподалеку от Дворцовой площади в Петербурге у впадения в р. Мойку Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова). Сравнительно низкое и протяженное здание имеет замкнуто-периметральную композицию, монументальные фасады которой строятся на сочетании мощной стены и крупномасштабного дорического ордера. Каждый фасад индивидуален в соответствии с характером организуемого городского пространства. В «островном» построении здания, активно взаимодействующего с городскими пространствами, зодчий в какой-то степени следовал древним московским принципам градостроительства. Архитектура Москвы после пожара 1812 г. основывалась на классицизме довоенного периода и новых послевоенных тенденциях. Тема победного триумфа в Отечественной войне нашла выражение в архитектуре Москвы, как и других городов России, в тяге к торжественным и монументальным формам, создании крупных ансамблей. Наряду с этим в Москве обострились проблемы жилищного и утилитарного строительства в связи с опустошительными последствиями пожара ми французской оккупации. Созданная в 1813 г. «Комиссия для строений города Москвы» разработала проект реконструкции города, проводя последовательно единый метод регулярной застройки во всех звеньях структуры города – от центральных площадей до отдельных улиц и переулков. Регламентировалась этажность в зависимости от значения улиц и площадей, определялась правилами обязательная постановка домов по проектным «красным линиям», устанавливались габариты зданий, оград и т. д. Были выработаны типы жилых домов с преобладанием для небольших зданий деревянных конструкций с последующей их штукатуркой и отделкой под камень.
Архитектура Москвы после пожара 1812 г. основывалась на классицизме довоенного периода и новых послевоенных тенденциях. Тема победного триумфа в Отечественной войне нашла выражение в архитектуре Москвы, как и других городов России, в тяге к торжественным и монументальным формам, создании крупных ансамблей. Наряду с этим в Москве обострились проблемы жилищного и утилитарного строительства в связи с опустошительными последствиями пожара ми французской оккупации. Созданная в 1813 г. «Комиссия для строений города Москвы» разработала проект реконструкции города, проводя последовательно единый метод регулярной застройки во всех звеньях структуры города – от центральных площадей до отдельных улиц и переулков. Регламентировалась этажность в зависимости от значения улиц и площадей, определялась правилами обязательная постановка домов по проектным «красным линиям», устанавливались габариты зданий, оград и т. д. Были выработаны типы жилых домов с преобладанием для небольших зданий деревянных конструкций с последующей их штукатуркой и отделкой под камень. В композиции использовались характерные для классицизма ордерные элементы и детали, рустовка стен, арки и архивольты, ниши, фронтоны и т. д. Широко применялась лепнина, а в интерьерах и живопись гризайль, имитирующая барельефы. Пропорции и различные комбинации деталей позволяли при общем единстве стиля придавать каждому дому индивидуальность. Улицы и площади, застроенные такими зданиями, превращались в целостные ансамбли. К архитектуре Москвы приближались и многие здания провинциальных городов, в которых последовательно внедрявшиеся принципы регулярной застройки нередко сочетались с традиционно живописными приемами композиции зданий. Застройка улиц по «образцовым» проектам дополнялась яркими индивидуальными зданиями и ансамблями. С особым вниманием относились к формированию центров городов. Во многих из них сложились замечательные ансамбли, в которых геометрическая система улиц и площадей органично сочеталась с ведущими элементами древнерусских ансамблей.
В композиции использовались характерные для классицизма ордерные элементы и детали, рустовка стен, арки и архивольты, ниши, фронтоны и т. д. Широко применялась лепнина, а в интерьерах и живопись гризайль, имитирующая барельефы. Пропорции и различные комбинации деталей позволяли при общем единстве стиля придавать каждому дому индивидуальность. Улицы и площади, застроенные такими зданиями, превращались в целостные ансамбли. К архитектуре Москвы приближались и многие здания провинциальных городов, в которых последовательно внедрявшиеся принципы регулярной застройки нередко сочетались с традиционно живописными приемами композиции зданий. Застройка улиц по «образцовым» проектам дополнялась яркими индивидуальными зданиями и ансамблями. С особым вниманием относились к формированию центров городов. Во многих из них сложились замечательные ансамбли, в которых геометрическая система улиц и площадей органично сочеталась с ведущими элементами древнерусских ансамблей.
§ 18. АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ.
 История России. XIX век. 8 класс
История России. XIX век. 8 класс§ 18. АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ
Архитектура. В архитектуре первой половины XIX в. выделяется несколько этапов. Классицизм сохранялся до середины 1830-х гг., его сменил эклектизм. Для 30 – 50-х гг. XIX в. было характерно обращение к византийскому и древнерусскому наследию. В строительном уставе 1841 г. отмечалось: «При составлении проектов на построение православных церквей преимущественно и по возможности должен быть сохранён вкус древнего византийского зодчества».
Вид Казанского собора
Андрей Никифорович Воронихин, сын крепостного графа А. С. Строганова, учился зодчеству у В. И. Баженова. Его монументальное творение – Казанский собор в Петербурге (1801 – 1811). В соборе был погребён полководец М. И. Кутузов.
Чёткость классических форм отличает другое архитектурное сооружение А. Н. Воронихина – здание Горного института (1806 – 1811). Фасад здания с 12-колонным портиком обращён к Неве. Перед портиком установлены скульптурные группы на мифологические темы, выполненные скульпторами С. С. Пименовым и В. И. Демут-Малиновским.
С. Пименовым и В. И. Демут-Малиновским.
Здание Биржи и Ростральные колонны. Архитектор Ж. Тома де Томон
Андреян Дмитриевич Захаров, зодчий русского ампира, реконструировал здание Адмиралтейства в Петербурге. Он сохранил башню со шпилем, возведённую в первой трети XVIII в. архитектором И. К. Коробовым, и общий вид старых корпусов. Лицевой корпус подвергся капитальной реконструкции, в нём, помимо учреждений Адмиралтейства, расположились библиотека и музей. Выразительность, которую А. Д. Захаров придал Адмиралтейству, во многом олицетворяет Петербург. Здание украшено скульптурами и барельефами, которые выполнили талантливые скульпторы своего времени Ф. Ф. Щедрин, И. И. Теребенёв и др.
Александрийская колонна и Главный штаб в Петербурге
Выходец из Швейцарии Тома де Томон построил в Петербурге здание Биржи (1805 – 1810), органически вписавшееся в ансамбль города.
Архитектор Василий Петрович Стасов проектировал Марсово поле – новую большую площадь Петербурга, руководил строительством казарм Павловского полка. Красотой и выразительностью отличается здание Опекунского совета (ныне Академия медицинских наук) архитектора Дементия Ивановича Жилярди.
Красотой и выразительностью отличается здание Опекунского совета (ныне Академия медицинских наук) архитектора Дементия Ивановича Жилярди.
Многие архитектурные ансамбли Петербурга связаны с именем Карла Ивановича Росси. В 1819 – 1829 гг. по его проекту напротив Зимнего дворца возвели здание Главного штаба как одного из основных архитектурных сооружений Дворцовой площади. К. И. Росси руководил строительством зданий Сената и Синода, Михайловского дворца (ныне Русский музей). Во внутренних помещениях дворца особой красотой выделяется парадная лестница, ведущая на второй этаж, где расположена анфилада комнат. На рубеже 1820 – 1830-х гг. К. И. Росси создал один из наиболее значительных ансамблей Петербурга, возникший в связи с постройкой Александринского театра.
Исаакиевский собор (1818 – 1858) в Петербурге построен по проекту архитектора Августа Августовича Монферрана. Собор украсили ценные облицовочные материалы (гранит, мрамор, бронза). Внутренние помещения расписывали живописцы К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни и др. Исаакиевский собор – самое большое здание, возведённое в России первой половины XIX в. Гранитная колонна на Дворцовой площади – памятник Александру I – также творение А. А. Монферрана.
П. Брюллов, Ф. А. Бруни и др. Исаакиевский собор – самое большое здание, возведённое в России первой половины XIX в. Гранитная колонна на Дворцовой площади – памятник Александру I – также творение А. А. Монферрана.
Исаакиевский собор и памятник Петру I. Художник М. Воробьёв
Архитектор Осип Иванович Бове составлял планы восстановления Москвы после пожара 1812 г. Благодаря его усилиям Красная площадь во многом приобрела новый облик. Реку Неглинку заключили в подземную трубу; в одном из мест её русла, вдоль западной стены Кремля, разбили первый в Москве общественный городской сад. Основываясь на проекте А. А. Михайлова, О. И. Бове построил здание Большого театра (1825), перед которым спроектировал одну из площадей города (ныне Театральная). В результате сложился архитектурный комплекс, в котором центральное место занимал Кремль. О. И. Бове проектировал строительство корпусов Первой градской больницы и Триумфальных ворот у Тверской заставы. Он принимал участие и в оформлении Манежа, который построил Карбонье по проекту французского инженера Бетанкура.
Вид храма Христа Спасителя в Москве
Скульптура. На рубеже XVIII – XIX вв. русская скульптура переживала новый подъём. По проекту Ивана Петровича Мартоса в Москве на Красной площади был возведён памятник Минину и Пожарскому. Феодосий Фёдорович Щедрин принял участие в обновлении скульптур фонтана Большого каскада в Петергофе. Вместе с ним работали Ф. И. Шубин, М. И. Козловский, И. П. Прокофьев.
Представителем классицизма в скульптуре был Иван Петрович Витали. Он совместно с И. Т. Тимофеевым является автором проекта Триумфальных ворот в Москве, увенчанных шестёркой лошадей, запряжённых в колесницу, с фигурой Славы, барельефов с изображением сцен изгнания французов из России. И. П. Витали работал и над статуями апостолов, евангелистов и ангелов, украсившими Исаакиевский собор.
В реалистической манере, которая отличается выразительностью движений и красотой силуэтов, работал Пётр Карлович Клодт. Наиболее известное его произведение – четыре конные группы на Аничковом мосту в Петербурге. Среди других работ скульптора памятники баснописцу И. А. Крылову и императору Николаю I.
Среди других работ скульптора памятники баснописцу И. А. Крылову и императору Николаю I.
Архитектор Константин Андреевич Тон – родоначальник русско-византийского стиля. По его проектам возводили храм Христа Спасителя в Москве (1837 – 1883). В 1838 – 1849 гг. он руководил строительством Большого Кремлёвского дворца, зданий вокзалов в Петербурге и Москве.
Укрощение коня. Скульптор П. Клодт
Живопись. В живописи первой половины XIX в. присутствовали разнообразные жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, историческая картина.
Художник Орест Адамович Кипренский с большим мастерством передавал внутренний мир человека, о чём свидетельствуют написанные им портреты Е. П. Ростопчиной, Е. В. Давыдова, Д. Н. Хвостовой, А. С. Пушкина. Новаторством отличалось творчество Василия Андреевича Тропинина. На картинах «Старик нищий», «Кружевница», «Гитарист» с большой теплотой изображены простые русские люди в будничной непринуждённой обстановке.
Пейзажи Италии принесли славу художнику Сильвестру Феодосиевичу Щедрину, картины с изображением моря – «Наваринский бой», «Девятый вал» и многие другие – Ивану Константиновичу Айвазовскому.
Карл Павлович Брюллов – автор картины «Последний день Помпеи», рассказывающей о гибели этого города под пеплом проснувшегося вулкана Везувия. На полотне изображены люди, охваченные страхом перед разбушевавшейся стихией. К. П. Брюллов писал и портреты, например В. А. Жуковского, И. А. Крылова и др.
Около 20 лет жизни посвятил художник Александр Андреевич Иванов работе над картиной «Явление Христа народу». Это монументальное по духовной значимости и художественной выразительности полотно И. Е. Репин назвал «самой гениальной и самой народной русской картиной».
Сцены деревенской жизни и крестьянского труда мастерски изображены на полотнах Алексея Гавриловича Венецианова: «Утро помещицы», «На жатве. Лето», «Жнецы». Художник Павел Андреевич Федотов писал картины на бытовые темы: «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Вдовушка» и многие другие.
Эклектизм – соединение разнородных художественных элементов разных архитектурных стилей.
Ампир (от франц. «империя») – стиль в архитектуре и декоративном искусстве первой трети XIX в., завершивший развитие классицизма. Отличался монументальными формами и богатым декором, воплощал идею государственного могущества.
«империя») – стиль в архитектуре и декоративном искусстве первой трети XIX в., завершивший развитие классицизма. Отличался монументальными формами и богатым декором, воплощал идею государственного могущества.
Вопросы и задания
1. Пользуясь материалом параграфа, иллюстрациями и дополнительной литературой, составьте рассказ об одном из архитектурных памятников первой половины XIX в.
2. С какими событиями общественной жизни было связано творчество архитектора К. А. Тона?
3. Творчество какого художника указанного периода вам ближе и почему?
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесАрхитектура неоклассицизма в России | Study.com
Характеристики русской неоклассической архитектуры
Строители русской неоклассической архитектуры искали классическую красоту. Эта концепция красоты была основана на чистоте архитектурных чистых линий . В строительных проектах использовались плоские поверхности для фасадов и простые геометрические фигуры для планировок.
Эта концепция красоты была основана на чистоте архитектурных чистых линий . В строительных проектах использовались плоские поверхности для фасадов и простые геометрические фигуры для планировок.
Вкус к простоте мы видим в стиле неоклассицизма, ярко отраженный на фасадах русской неоклассической архитектуры.Внешняя отделка практически исчезла. Все сложные или чрезмерные орнаменты из барокко были устранены, и имело место преобладание архитектонических концепций над украшением. Здание считалось красивым, потому что оно имело правильные пропорции и соответствующие конструктивные элементы, а не потому, что оно было украшено. Поэтому очень мало украшений и декоративных элементов использовалось, если вообще использовалось.
Как и в древнегреческой и римской архитектуре, размеры и пропорции зданий русского неоклассицизма были тесно связаны с математикой.Элементы зданий должны были быть точными, сбалансированными и пропорциональными. Симметрия была правилом в каждом дизайне.
Русский неоклассицизм использовал основные архитектурные и конструктивные элементы классической архитектуры. Поэтому колонны и перемычки широко использовались в качестве основных компонентов для оформления фасадов. Также часто использовались своды и купола римской архитектуры.
Использование греческих классических ордеров для колонн также было очень характерно для этого стиля.Древние греки установили три разных порядка или формы для верхней части колонн, известной как капитель. Это был дорический ордер, состоявший из простых круглых капителей; ионический ордер, узнаваемый по спиралевидным элементам на капителях; и коринфский ордер, который более орнаментирован и не так часто использовался в неоклассической архитектуре.
Интересной особенностью русской неоклассической архитектуры было использование цвета. Хотя это и не всегда так, несколько зданий с фасадами были окрашены в светлые оттенки желтого или синего.Это был традиционный русский элемент.
Спустя более чем столетие архитектура вновь вдохновилась классическими формами для создания внушительных зданий, демонстрирующих мощь и величие.
Образцы русской неоклассической архитектуры
Сенат Кремля (Москва, 1788 г.)Это общественное здание первоначально было построено для размещения местного Сената в Москве. Здание имеет треугольную планировку и симметрично с каждой стороны. Фасады строгие, почти без украшений.Здесь много колонн, а у строения есть центральный купол. Сенат Кремля был окрашен в желтый цвет, в тот же тон, что и другие общественные здания города.
Павловский дворец был построен как загородная резиденция императорской семьи. Это большая симметричная композиция, увенчанная куполом в центре.В качестве конструктивных элементов широко использовались колонны и перемычки. Фасады имеют скромную витиеватость в верхней части, но в основном они трезвые. Наружные стены были окрашены в бледный цвет.
Фасады имеют скромную витиеватость в верхней части, но в основном они трезвые. Наружные стены были окрашены в бледный цвет.
Первоначально построенное для фондовой биржи, здание многие десятилетия использовалось как военно-морской музей.Это одна из самых ярких отсылок к классической греческой архитектуре. В здании используется симметричная композиция с классическими пропорциями, а по всему периметру расположены колонны. Фасады почти не имеют украшений. Над входом установлена скульптура с классическими фигурами, которая выступает в качестве главного декоративного элемента.
 )
)Троицкий собор является образцом позднерусского неоклассицизма.В здании сочетаются классические колонны и портики с характерными куполами русских православных храмов. В композиции здания используются очень четкие линии, а фасады в основном плоские с небольшим орнаментом.
Краткий обзор урока
Неоклассическая архитектура — стиль, основанный на архитектуре Древней Греции и Рима. Он попал в Россию во времена правления императрицы Екатерины Великой через итальянских и французских архитекторов.Он развивался со второй половины 18 века до середины 19 века.
Русская неоклассическая архитектура имела концепцию красоты, основанную на чистых линиях . Был вкус к простоте , что отражалось на фасадах. Внешняя отделка почти исчезла, очень мало украшений , если они вообще есть. Размеры и пропорции были тесно связаны с математикой. Здания должны были быть точными, уравновешенными, пропорциональными и симметричными .классические конструктивные элементы, такие как колонн , перемычек , сводов и куполов , использовались в изобилии. Использование дорических и ионических классических ордеров было очень характерно для этого стиля.
Здания должны были быть точными, уравновешенными, пропорциональными и симметричными .классические конструктивные элементы, такие как колонн , перемычек , сводов и куполов , использовались в изобилии. Использование дорических и ионических классических ордеров было очень характерно для этого стиля.
Примеры русской неоклассической архитектуры:
- Сенат Кремля.
- Павловский дворец.
- Старая Санкт-Петербургская биржа.
- Троицкий собор.
: История :: Культура и искусство :: Россия-ИнфоЦентр
Русская архитектура испытала влияние западной культуры больше, чем какие-либо другие сферы.Новая столица России — Санкт-Петербург — резко контрастировала с Москвой. Город Петра Великого был основан на совершенно новых принципах градостроительства: город ансамблевого характера был спроектирован со строгой планировкой улиц, площадей, административных зданий и дворцов. До недавнего времени Санкт-Петербург считался действительно современным городом, а Москву часто называли «большой деревней». Некоторые поклонники великолепного Петербурга предложили назвать его «восьмым чудом света».
До недавнего времени Санкт-Петербург считался действительно современным городом, а Москву часто называли «большой деревней». Некоторые поклонники великолепного Петербурга предложили назвать его «восьмым чудом света».
Совсем недавно, благодаря появлению постмодернистской архитектуры, вызвавшей переоценку ценностей, Москва превзошла Петербург по своему архитектурному значению.
Русский классицизм в архитектуре XVIII века был представлен И.Е. Сгаров, Д. Кваренги, В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. т.е. Сгаров построил Таврический дворец и Троицкий собор Александро-Невской лавры в Петербурге. Д. Кваренги построил павильон Концертный зал и Александровский дворец в Царском Селе (ныне Пушкин), Эрмитажный театр и Ассигнационный банк в Петербурге. В Москве работали архитекторы В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. Первый создал великолепный Дом Пашкова, а второй спроектировал оригинальное здание Московского университета, Сената в Московском Кремле и Первой городской больницы.
Русское барокко в архитектуре замечательно воплотили произведения Д. Трезини и В. В. Растрелли. Д. Трезини построил Дом Двенадцати коллегий (ныне Университет), Летний дворец Петра Великого и Петропавловский крепостной собор в Петербурге. В. В. Растрелли построил Зимний дворец (ныне всемирно известный Эрмитаж) и Смольный монастырь в Петербурге, большой Петергофский дворец, Екатерининский дворец в Царском Селе.
Трезини и В. В. Растрелли. Д. Трезини построил Дом Двенадцати коллегий (ныне Университет), Летний дворец Петра Великого и Петропавловский крепостной собор в Петербурге. В. В. Растрелли построил Зимний дворец (ныне всемирно известный Эрмитаж) и Смольный монастырь в Петербурге, большой Петергофский дворец, Екатерининский дворец в Царском Селе.
русссылка100029
Автор: Вера Иванова
Москва и Санкт-ПетербургПетербург, череда столиц, сказка о двух городах на JSTOR
Абстрактный С раннего Нового времени и до настоящего времени в России (временно присоединенной к СССР) было две столицы: Москва и Петербург. Москва была первоначальной столицей, на смену ей пришел Петербург с начала 18 века. С начала 20-го века Москва снова стала столицей, но в конце 20-го века она стала другой столицей.В статье описывается эволюция представления государственной функции в облике столичных городов через государственные здания, памятники, названия улиц. Кроме того, анализируются судьбы бывших столиц (сначала Москвы, затем Петербурга) с точки зрения их символических функций. Санкт-Петербург зародился как обращенная вовне столица, подчеркивающая европейское призвание России, тогда как Москва изначально была обращенной внутрь столицей, представляющей самобытные духовные ценности России.Изменения были связаны с изменением характера сменявших друг друга политических режимов и с изменением роли двух городов в рамках этих режимов.
Кроме того, анализируются судьбы бывших столиц (сначала Москвы, затем Петербурга) с точки зрения их символических функций. Санкт-Петербург зародился как обращенная вовне столица, подчеркивающая европейское призвание России, тогда как Москва изначально была обращенной внутрь столицей, представляющей самобытные духовные ценности России.Изменения были связаны с изменением характера сменявших друг друга политических режимов и с изменением роли двух городов в рамках этих режимов.
GeoJournal — международный журнал, посвященный всем отраслям пространственно интегрированных социальных и гуманитарных наук. Этот давний журнал стремится публиковать передовые, инновационные, оригинальные и своевременные исследования со всего мира и по всему спектру социальных и гуманитарных наук, которые имеют явный географический/пространственный компонент, в частности, в шести основных областях GeoJournal: — Экономическая география и география развития — Социально-политическая география — Культурно-историческая география — Здоровье и медицинская география — Экологическая география и устойчивое развитие — Правовая/этическая география и политика
Информация об издателе Springer — одно из ведущих международных научных издательств, выпускающее более 1200 журналов и более
3000 новых книг ежегодно, охватывающих широкий круг предметов, включая биомедицину и науки о жизни, клиническую медицину,
физика, инженерия, математика, информатика и экономика.
Уильям С
Уильям С Уильям С. Брамфилд
ИЗ ПАРИЖА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
ВОСПРИЯТИЯ АРХИТЕКТУРЫ XIX ВЕКА
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
На русском языке
Если национализм является светской религией, следует отметить, что важным аспектом
Возрождение средневековых стилей в европейской архитектуре XIX в.
перенос мотивов из сакральной в светскую архитектуру.Это
особенно в России, для каменного зодчества в этой стране до
18 века почти полностью состояла из церквей. Действительно, церковь служила
центральным выражением средневековой русской идентичности, примером которой является Москва.
Собор Покрова на Рву, известный в народе как Василий Блаженный
а также известный в 16 и 17 веках как Иерусалим 1 . Построен как обет
церковь 1555-61 гг. в память победы Ивана Грозного над
Казанского ханства в 1552 году, структура празднует слияние России и
Роль Москвы как защитника православной веры. В то время как другие русские церкви
редко достигавшая такой коннотативной плотности церковная архитектура (в т.ч.
монастыри) продолжали служить вплоть до петровской эпохи хранилищем
национальное самосознание в архитектуре.
В то время как другие русские церкви
редко достигавшая такой коннотативной плотности церковная архитектура (в т.ч.
монастыри) продолжали служить вплоть до петровской эпохи хранилищем
национальное самосознание в архитектуре.
Тем не менее, быстрое
Секуляризация русского общества в XVIII веке привела к
переопределение роли церкви 2 . Эта трансформация сопровождалась
столь же радикальное изменение конструкции церкви, форма которой могла быть изменена
в соответствии с последним имперским вкусом (сам по себе политический жест).Таким образом, церковь
стал одним из многих видов монументальной архитектуры, подчиненных государству.
и зависит от него для поддержки. Иногда делались уступки национальным
традиции, как в возвышенно прекрасном соборе Бартоломео Растрелли.
Воскресенский в Смольном монастыре, заказанный в 1740-х гг.
Императрица
Элизабет 3 . Но каков бы ни был особый церковный замысел, императорский двор
оставалась центральной культурообразующей силой просвещенного самодержавия.
Уравнение государства и нации в имперской русской архитектуре завершилось
поздние неоклассические памятники Карло Росси.В 1805 году, вернувшись из
учебное путешествие по Европе (в частности, по Италии), молодой Росси подал предложение
на реконструкцию Адмиралтейской набережной. Проект так и не был реализован
а рисунки Росси исчезли; но его объяснение содержит
следующий отрывок: Размеры предложенного мною проекта превышают
приняты римлянами для их структур. Действительно, почему мы должны бояться быть
сравниться с ними в великолепии? Это слово следует толковать не как
изобилие орнамента, а величие форм, благородство пропорций и
солидность.Этот памятник должен быть вечным 4 . Величие России как нации
здесь подтверждается сравнением с сердцем западной, римской культуры.
Росси был одним из последних блестящих петербургских неоклассиков. Как и везде
в Европе концепция доминирующей архитектурной системы, основанная на
классический ордер уступил место идеям краеведения, воплощенным в архитектурных
стиль. Вместо универсалий русские интеллигенты эпохи романтизма, вроде
их коллеги в других странах Европы возвышали местные,
конкретно
национальный 5 .Хотя классические модели продолжали почитаться, особенно в
образовательные программы, конкурирующие претензии на новые тектонические и декоративные
формы приводили доводы в пользу большей реакции на функцию и физическую обстановку, как на
что стимулировало эклектичный подход, основанный на обращении к национальному
характер и его культурное наследие.
Вместо универсалий русские интеллигенты эпохи романтизма, вроде
их коллеги в других странах Европы возвышали местные,
конкретно
национальный 5 .Хотя классические модели продолжали почитаться, особенно в
образовательные программы, конкурирующие претензии на новые тектонические и декоративные
формы приводили доводы в пользу большей реакции на функцию и физическую обстановку, как на
что стимулировало эклектичный подход, основанный на обращении к национальному
характер и его культурное наследие.
Тем не менее ранние исследователи русской архитектуры часто приписывали отечественное строительство
традиции в различные иностранные производные, как показано в импрессионистическом
общие сведения о публичной лекции, прочитанной в 1837 г. Алексеем Мартыновым
(1820-1895), ученица Московского придворного архитектурного училища 6 .Предположения
и неточности Мартынова и др. имеют, однако, меньшее значение, чем
их попытка возродить культурное наследие, которое так долго казалось
невидимый. В 1838 году петербургская «Художественная газета» (Художественная
газета) жаловался, что русские академики все еще озабочены
памятники древнего мира, в ущерб пониманию русского
архитектура и ее связь с другими культурами: было бы желательно
если бы наши зодчие тоже обратили внимание на памятники разных времен
и вкусы разбросаны по нашим провинциям 7 .Статья, опубликованная в 1840 г.
тот же источник провозгласил, что «Каждый климат, каждый народ, каждое время имеют свои
особый стиль, который соответствует определенным потребностям или удовлетворяет особые цели 8 . Для растущего числа интеллигенции, народа или народн. был единственным
аутентичной основой современной национальной культуры.
В 1838 году петербургская «Художественная газета» (Художественная
газета) жаловался, что русские академики все еще озабочены
памятники древнего мира, в ущерб пониманию русского
архитектура и ее связь с другими культурами: было бы желательно
если бы наши зодчие тоже обратили внимание на памятники разных времен
и вкусы разбросаны по нашим провинциям 7 .Статья, опубликованная в 1840 г.
тот же источник провозгласил, что «Каждый климат, каждый народ, каждое время имеют свои
особый стиль, который соответствует определенным потребностям или удовлетворяет особые цели 8 . Для растущего числа интеллигенции, народа или народн. был единственным
аутентичной основой современной национальной культуры.
Это тема, имеющая множество разветвлений для российской и европейской истории.
Действительно, оно связано с преобразованием истории как
академический
дисциплина 9 .Использование истории в архитектуре для формулирования национального смысла
идентичности привели к таким движениям, как историзм и эклектика 10 . Тем не менее,
любопытная инверсия логики, постклассический, эклектичный век по определению
не было собственного стиля. Адаптация орнаментальных мотивов, заимствованных из других,
часто экзотические, культуры сосуществовали с попытками воссоздания национальных стилей,
производное от возрождения понимания средневекового (в России допетровского)
культура. Таким образом, восприятие архитектурной формы все больше ассоциировалось с
литературные интерпретации истории.
Тем не менее,
любопытная инверсия логики, постклассический, эклектичный век по определению
не было собственного стиля. Адаптация орнаментальных мотивов, заимствованных из других,
часто экзотические, культуры сосуществовали с попытками воссоздания национальных стилей,
производное от возрождения понимания средневекового (в России допетровского)
культура. Таким образом, восприятие архитектурной формы все больше ассоциировалось с
литературные интерпретации истории.
Один из первых писателей, рассматривавших культурное значение европейского
историзма был Виктор Гюго, особенно в его Соборе Парижской Богоматери, впервые
опубликовано в 1831 г. Его примечание, добавленное к окончательному изданию (1832 г.), комментарии
как об упадке современной архитектуры, так и о необходимости сохранения
исторических зданий, пока не наступит более достойная архитектурная эпоха:
В ожидании новых памятников давайте сохраним старые памятники. Если это
возможно, давайте привьем нации любовь к национальной архитектуре.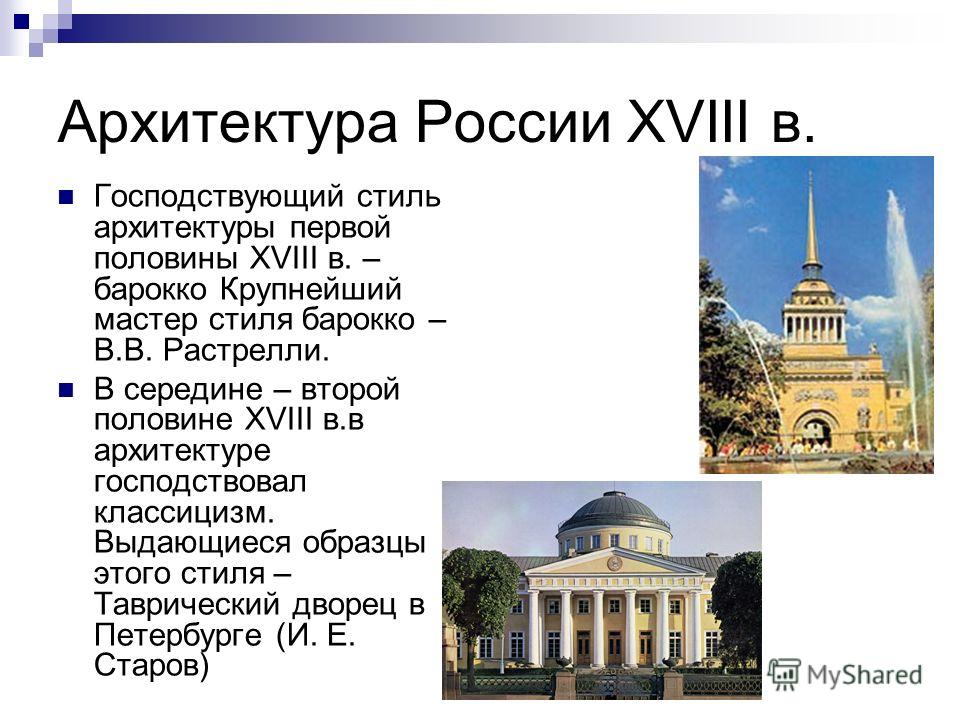 Это, заявляет автор, является одной из основных целей этой книги 11 .
Это, заявляет автор, является одной из основных целей этой книги 11 .
Парадоксально, но Гюго в книге, действие которой происходит в 1480-х годах, предполагает, что архитектура
неминуемо должна утратить превосходство среди искусств, которым она обладала до
Ренессанс. В конце первой главы пятой книги Хьюго одержим
архидиакон Дон Клод говорит, что читал одну за другой мраморные буквы
алфавит, гранитные страницы книги. Определив великий
архитектуру прошлого как высший акт творения человека и хранилище
знаний, он поднимает левую руку к башням Нотр-Дама, кладет
прямо на книге, напечатанной в 1474 году в Нюрнберге, и говорит: Это убьет то…. Книга убьет здание (172-173).
Смысл этого темного изречения подробно разъясняется в следующем
глава, авторское отступление под названием Ceci tuera cela. Хьюго первый
интерпретирует это высказывание в самом прямом смысле, как неизбежный конфликт
между церковью и Гутенбергом, печатного станка, нарушающего церковный
монополия на власть информации. Затем он толкует слова более широко:
печать разрушит трансцендентную силу архитектуры.От происхождения
вещей до пятнадцатого века христианской эры включительно,
архитектура была великой книгой человечества, основным выражением человека в
различные его состояния развития (175). Гюго рассказывает о зарождении текстовой
коды (буквами, иероглифами) к оформлению древних сооружений 12 . Большинство
расширенным из его примеров является Иерусалим.
Затем он толкует слова более широко:
печать разрушит трансцендентную силу архитектуры.От происхождения
вещей до пятнадцатого века христианской эры включительно,
архитектура была великой книгой человечества, основным выражением человека в
различные его состояния развития (175). Гюго рассказывает о зарождении текстовой
коды (буквами, иероглифами) к оформлению древних сооружений 12 . Большинство
расширенным из его примеров является Иерусалим.
Храм Соломона, например, был не просто переплетом священной книги,
это была сама священная книга.На каждом из его концентрических участков жрецы
могли прочитать слово, переведенное и проявленное перед их глазами, и они последовали
его превращения из святилища в святилище, пока они не постигли его в
последняя скиния в ее самой конкретной форме, которая все еще была архитектурой:
Ковчег. Таким образом, Слово было заключено в здании, но его образ был на его
покрытие [конверт]… (176).
С наступлением эпохи Возрождения в пятнадцатом веке архитектурная форма
как главный носитель знаний культуры о себе (как это представляет Хьюго)
поддавшись слову, рассеянные по новой технологии и содержащие семена
революционных, дестабилизирующих идей: человеческая мысль открыла средства
увековечивая себя не только более прочным и устойчивым, чем архитектура, но
также проще и легче. … Изобретение книгопечатания — величайшее событие в
история. Это мать революции (182).
… Изобретение книгопечатания — величайшее событие в
история. Это мать революции (182).
Это перенаправление уменьшило внутреннее значение стиля в архитектуре:
открытие книгопечатания, архитектура мало-помалу увядает… Это не
больше выражает общество любым существенным образом; … от галльского,
Европейское, коренное, оно становится греческим и римским, из истинного и
современный [он становится] псевдоантичным. Именно этот декаданс называется
ренессанс (183).Ирония, лежащая в основе этого пассажа, состоит в том, что Ренессанс
положило начало развитию литературной культуры (что в конечном итоге привело к
роман), чье грамотное восприятие доренессансного
архитектура, как у Гюго, обязательно историческая и
псевдоантичный.
Как и многие другие архитектурные критики девятнадцатого века, Гюго признает
возможность нового века, возрождения в современной архитектуре, даже если он
порицает его современный упадок и выступает за сохранение
оставшиеся местные артефакты более ранней эпохи. Хьюго, пожалуй, уникален в
резкость, с которой он выражает свою главную мысль: пусть никто не ошибается:
архитектура мертва, безвозвратно мертва, убита печатной книгой, убита
потому что терпел меньше; убили, потому что это стоило дороже (186). Большая авария
гениального архитектора может произойти в двадцатом веке, как у Данте.
сделал в тринадцатом; но архитектура никогда больше не будет социальным искусством,
коллективное искусство, господствующее искусство. … И если впоследствии архитектура
случайно оживите, он больше не будет хозяином.Он будет подчиняться закону
литературы …(187).
Хьюго, пожалуй, уникален в
резкость, с которой он выражает свою главную мысль: пусть никто не ошибается:
архитектура мертва, безвозвратно мертва, убита печатной книгой, убита
потому что терпел меньше; убили, потому что это стоило дороже (186). Большая авария
гениального архитектора может произойти в двадцатом веке, как у Данте.
сделал в тринадцатом; но архитектура никогда больше не будет социальным искусством,
коллективное искусство, господствующее искусство. … И если впоследствии архитектура
случайно оживите, он больше не будет хозяином.Он будет подчиняться закону
литературы …(187).
Гюго одновременно сожалеет об утрате могущества средневековой архитектуры и
чувство превосходства в способности писателя контролировать восприятие
аутентичное и неаутентичное в архитектуре. Но более того, писатель
девятнадцатый век, как предполагает Гюго, способен изменить национальную историю.
из камней древних памятников. Первые две главы третьей книги
Нотр-Дам посвящены наслоению истории в архитектуре, сначала в
самого собора, а затем и в городе, как видно из собора. В обоих
случаях Гюго описывает богатство времени и текстуры, а затем заявляет, что
величайшие атрибуты церкви и города были утеряны из-за забвения и
равнодушие, точно так же, как архитектура утратила свою центральную роль в
человеческое сознание.
В обоих
случаях Гюго описывает богатство времени и текстуры, а затем заявляет, что
величайшие атрибуты церкви и города были утеряны из-за забвения и
равнодушие, точно так же, как архитектура утратила свою центральную роль в
человеческое сознание.
Комментарии Гюго об архитектуре полемичны, спорны и страстны.
занимается делом сохранения, которое он рассматривает как средство сохранения
народная правда о себе 13 . Писатель придает смысл немым историческим
структур в грамотный век, и в то же время использует архитектуру как
символическая структура для значения в пределах его собственной работы.Хотя репутация г.
Нотр-Дам в этом столетии померк, его читали в девятнадцатом; и
можно предположить, что она была хорошо известна, особенно в 1830-е гг., русскому
литературная элита, жадно читающая французские романы 14.
Именно в это время крупнейшие русские писатели начали свои набеги на
комментарий об архитектуре как историко-культурной летописи. Профессиональный
литераторов и писателей, таких как Николай Гоголь, любитель архитектуры, и
Федор Достоевский, инженер по образованию, должен был произвести самые острые
Русский архитектурный комментарий середины девятнадцатого века. век.В то же время архитектурный стиль для большого количества зданий
необходимого для роста городов, все больше становилось вопросом оформления фасада в
стилизация историцистских декоративных мотивов. С ростом, пусть и незначительным,
капиталистическое общество и экономика, основанная на индивидуальном, а не государственном
инициативы, вкусы архитектора и мецената формировались в рамках нового,
грамотное осознание возможного многообразия самобытных стилей.
век.В то же время архитектурный стиль для большого количества зданий
необходимого для роста городов, все больше становилось вопросом оформления фасада в
стилизация историцистских декоративных мотивов. С ростом, пусть и незначительным,
капиталистическое общество и экономика, основанная на индивидуальном, а не государственном
инициативы, вкусы архитектора и мецената формировались в рамках нового,
грамотное осознание возможного многообразия самобытных стилей.
Таким образом, подходя к теме историзма в архитектуре девятнадцатого века,
мы сталкиваемся с парадоксом: с одной стороны, историцистская архитектурная
ожидается, что стили будут представлять и воплощать национальный образ, который ipso facto
в эпоху до Просвещения, в средневековую эпоху, будь то во Франции, Англии,
Германии или России.Но если миссия архитектуры состоит в том, чтобы вызвать историческое
ассоциаций, содержание декоративного изображения должно обеспечиваться не
архитекторами, а писателем, идеологом, историком. В крайнем случае,
фасад здания становится текстом, репрезентация которого превосходит тектоническую четкость,
единство или даже практичность. В историзме торжество печатного слова над
архитектура завершена в тот самый момент, когда архитектура призвана
имитировать его характерное догутенберговское прошлое.(В России книги печатались
второй половине шестнадцатого века, однако средневековый менталитет часто
предположительно сохранялись до времен Петра I.)
В историзме торжество печатного слова над
архитектура завершена в тот самый момент, когда архитектура призвана
имитировать его характерное догутенберговское прошлое.(В России книги печатались
второй половине шестнадцатого века, однако средневековый менталитет часто
предположительно сохранялись до времен Петра I.)
Показательный пример дает Гоголь в своем очерке, опубликованном в 1835 г.
современной архитектуры, в которой он пишет о фрагментации социальных и
Эстетическое сознание в новом веке: наш век так мелок, его желания так
рассеяны, наши знания настолько энциклопедичны, что мы не можем сконцентрироваться
мысли на одну тему; и против нашей воли мы разделяем все наши творения на
мелочи и очаровательные игрушки.У нас есть чудесный дар делать
все
незначительный 15 .
И все же Гоголь продолжает экстремальное архитектурное видение, которое рассредоточено,
энциклопедично и, возможно, тривиально. В отличие от универсальной меры
неоклассицизма, он апеллирует к визуально стимулирующей городской архитектуре, составленной
всех стилей: город должен состоять из разнообразных масс, если хотите, чтобы
доставить удовольствие глазу. Пусть в нем соберется побольше разнообразных вкусов.
Пусть на одной и той же улице возвышается нечто мрачное и готическое; что-то
восточный, отягощенный роскошью орнамента; нечто египетское, колоссальное;
и что-то греческое, пронизанное стройными пропорциями (57).Функция
вытеснено созданием эстетического городского пейзажа, чтобы просвещать, а также
радовать его обитателей.
Пусть в нем соберется побольше разнообразных вкусов.
Пусть на одной и той же улице возвышается нечто мрачное и готическое; что-то
восточный, отягощенный роскошью орнамента; нечто египетское, колоссальное;
и что-то греческое, пронизанное стройными пропорциями (57).Функция
вытеснено созданием эстетического городского пейзажа, чтобы просвещать, а также
радовать его обитателей.
Что касается человека, способного спроектировать эту новую среду: 90 146
Архитектор-творец должен иметь глубокие познания во всех формах архитектуры.
Меньше всего ему следует пренебрегать вкусом тех народов, которым мы обычно
проявлять пренебрежение к художественным делам. Но чтобы овладеть идеей, он должен быть
гений и поэт (57).
Гоголевская романтическая концепция творческого архитектора кажется далекой от русской.
практике, но его пристрастие к готической архитектуре разделяли многие
русские критики и архитекторы, включая Александра Брюллова, единственного современника
архитектор, творчество которого восхвалял Гоголь(61). Хотя образный, своеобразный
Псевдоготическая архитектура процветала в России в царствование
Екатерины Великой возрождение постклассической готики не только получило более широкое распространение.
применялся, но и возник именно как противоядие от неоклассицизма.
Действительно, готическое возрождение можно считать первым стилистическим развитием
после неоклассицизма претендовать как на эстетическое, так и на историческое значение
согласно своему праву. Для историзма девятнадцатого века готическое возрождение также
послужило толчком к переосмыслению средневековой русской архитектуры 16 .
Хотя образный, своеобразный
Псевдоготическая архитектура процветала в России в царствование
Екатерины Великой возрождение постклассической готики не только получило более широкое распространение.
применялся, но и возник именно как противоядие от неоклассицизма.
Действительно, готическое возрождение можно считать первым стилистическим развитием
после неоклассицизма претендовать как на эстетическое, так и на историческое значение
согласно своему праву. Для историзма девятнадцатого века готическое возрождение также
послужило толчком к переосмыслению средневековой русской архитектуры 16 .
Очерк Гоголя завершается предложением об архитектурной улице в стране.
который все еще имел самое смутное представление о собственной архитектурной истории. Пересечение
века цивилизации, отраженные в искусстве строительства (ср. восприятие Гюго
Парижа в Нотр-Дам), эта идеальная улица завершается готической архитектурой,
венец искусства и променад завершается каким-то еще неопределенным новым стилем. Эта улица станет в известном смысле историей развития
вкус, а кому лень листать увесистые фолианты,
прогуляйтесь по ней, чтобы все узнать (59).
Эта улица станет в известном смысле историей развития
вкус, а кому лень листать увесистые фолианты,
прогуляйтесь по ней, чтобы все узнать (59).
В этой фантазии нет ни одного упоминания о средневековой русской архитектуре, в
любое его проявление; и отсылки в статье к русскому неоклассицизму
не лестны. Гоголь восхваляет Миланский и Кёльнский соборы, а также
исламская архитектура Индии; но все то, что гоголевский культивировал
но ленивый русский мог бы проверить, не содержит ничего из Киева одиннадцатого века
или Новгород, ничего от Владимира двенадцатого века или Москвы шестнадцатого века.
Увлечение Гоголя архитектурой и ее историей (у него было одно время
изучал архитектуру древнего мира) на Русь не распространялся.Его
бульвар архитектурной истории был средством воображения того, что Россия
видимо, не было истории, не просто архитектурной летописи, а
история народа, раскрытая через его архитектуру.
И все же к началу XIX века экспедиции в русскую
сельская местность искала артефакты той истории. В 1830-х годах Академия им.
искусств, оплот европейского образования, заказал обследование допетровской
памятники, составленные художником Федором Солнцевым (1801-1892), творчество которого
сыграл важную роль в популяризации ранней русской архитектуры.В течение
Последующее десятилетие интерес к новому открытию русского архитектурного
наследие получило значительную поддержку со стороны Ивана Снегирева (1793-1868),
профессором классики Московского университета, но и любителем средневековья.
Русская история. В 1848 году Алексей Мартынов и Снегирев начали издавать свои
влиятельная серия «Русская старина» («Русская старина»), в которой
подробные описания средневековых памятников 17 .
В 1830-х годах Академия им.
искусств, оплот европейского образования, заказал обследование допетровской
памятники, составленные художником Федором Солнцевым (1801-1892), творчество которого
сыграл важную роль в популяризации ранней русской архитектуры.В течение
Последующее десятилетие интерес к новому открытию русского архитектурного
наследие получило значительную поддержку со стороны Ивана Снегирева (1793-1868),
профессором классики Московского университета, но и любителем средневековья.
Русская история. В 1848 году Алексей Мартынов и Снегирев начали издавать свои
влиятельная серия «Русская старина» («Русская старина»), в которой
подробные описания средневековых памятников 17 .
Поэтому тем более любопытно, что в середине
девятнадцатого века, Петербург, не средневековая Московия, охотнее служила
утвердить позицию России как страны со значительной историей.Этот парадокс
освещен в «Петербургской летописи» Федора Достоевского от 1 июня 1847 года.
Комментируя приход весны в северную столицу, фланер
бродячий наблюдатель, повествовательный персонаж Достоевского) описывает город в
муки роста: Толпы рабочих со штукатуркой, с лопатами, с молотками,
топоры и другие инструменты располагаются вдоль Невского проспекта как бы
дома, как будто купили; и горе пешеходу, фланеру или
наблюдатель, у которого нет серьезного желания походить на Пьеро, обсыпанного мукой в
римский карнавал 18 .
Подобные мотивы городской экспансии и перемен вновь появляются в произведениях романиста.
работы после изгнания, в первую очередь « Преступление и наказание» , где они составляют неотъемлемую часть
частью психологической среды. Предыдущий отрывок, однако, отклоняется
в дискурс о антропогенной среде как истории, в текст, декодирование которого
ведет к прошлому как к выражению родной идентичности. С приближением лета
и культурное общество выезда из города:
Что остается тем гражданам, чей плен заставляет проводить лето
в столице? Изучать архитектуру зданий, как строится город
обновлены и построены? Конечно, это важное занятие и даже
назидательныйВаш петербуржец так рассеян зимой, и у него так много
удовольствия, бизнес, работа, игра в карты, сплетни и разные другие
развлечений, кроме которых столько грязи, что ему вряд ли
пора оглянуться, вглядеться в Петербург повнимательнее, изучить его
физиономию и читать историю города и всей нашей эпохи в этой массе
камни, в этих великолепных зданиях, дворцах, памятниках [курсив добавлен WB]. Ведь вряд ли кому-то придет в голову убивать драгоценное время с
такое совершенно невинное и невыгодное занятие (24).
Ведь вряд ли кому-то придет в голову убивать драгоценное время с
такое совершенно невинное и невыгодное занятие (24).
Ирония здесь двусмысленна, поскольку в последующем творчестве Достоевского используется
архитектура как продолжение и отражение современного ментального состояния
отдельные персонажи, а также целые коллективы — петербургские
тема. Более того, ко времени раннего творчества Достоевского городская
архитектура отражала лишь немногим более чем столетнюю историю, и что
зачастую в нарочитом противопоставлении культурным традициям допетровской
период. Несмотря на чувствительность к психологическому воздействию городской архитектуры,
Достоевский мало интересовался архитектурным историзмом как средством
восстановление чувства русскости, которое, предположительно, существовало в досовременном (т.е.,
допетровская) история.
Амбивалентное или крайне избирательное отношение Достоевского к истории
развился в последующем прохождении его 1 июня вступления в Петербург
Хроника. Здесь Достоевский представляет исторический подход к
архитектуры через комментарии к русским памятникам, содержащиеся в La Russie en
1839 г. маркиза де Кюстина. Несмотря на запрет в России, книга была
тем не менее широко известен в интеллектуальных кругах и является безошибочным источником
ссылок на Достоевского:
маркиза де Кюстина. Несмотря на запрет в России, книга была
тем не менее широко известен в интеллектуальных кругах и является безошибочным источником
ссылок на Достоевского:
Между прочим, изучение города дело действительно не бесполезное.мы не
точно помню, но когда-то нам довелось читать одну французскую книгу,
который целиком состоял из взглядов на современное состояние России. Из
конечно, уже известно, каковы взгляды иностранцев на современную
состояние России; как-то до сих пор мы упорно не подчиняемся бытию
измеряется иностранной меркой. Но, несмотря на это, известная туристическая книга
жадно читала вся Европа. Среди прочего, было указано, что существует
ничего более бесхарактерного, чем петербургская архитектура; что там есть
ничего особенно выдающегося в этом, ничего национального (выделено Достоевским),
и что весь город представляет собой гибридную карикатуру на несколько европейских столиц.И, наконец, что Петербург, хотя бы в архитектурном смысле, представляет собой такое
странная смесь, которую не перестаешь восклицать с изумлением на каждом шагу
(24).
В парафразе Достоевского Кюстин изображает Петербург как архитектурную
гибридизация, подобная той, которую предвидел Гоголь, но не нашел в
Петербург: греческая архитектура, римская архитектура, византийская архитектура,
голландская архитектура, готическая архитектура, архитектура рококо, новейшая
Итальянская архитектура, наша православная архитектура, все это, по
путешественник, на скорую руку облеченный в самую занимательную форму, и в заключение
ни одного по-настоящему красивого здания! 19 .
Позже Достоевский опубликует аналогичные взгляды на гибридную природу Петербурга.
архитектура как барометр социальной неразберихи в его «Дневнике писателя». Из
однако более непосредственный интерес представляет его реакция на заявление Кюстина о том, что
архитектуре Петербурга не хватает аутентичного, соответствующего стиля. Несмотря на его
оборонительный маневр (мы знаем, чего стоят взгляды иностранцев на Россию),
Достоевский, кажется, упивается описанием Кюстина архитектурного облика города. палитра.Хотя Кюстин критиковал эстетику Петербурга, он
поражен обликом города, в котором стилистическое разнообразие сочеталось с
монументальное единообразие 20 .
палитра.Хотя Кюстин критиковал эстетику Петербурга, он
поражен обликом города, в котором стилистическое разнообразие сочеталось с
монументальное единообразие 20 .
Кроме того, Кюстин видел строительство Петербурга как проверенное историей
и предвидя это:
В других местах великие города строятся в память о великих делах прошлого. Или, пока
города делают себя с помощью обстоятельств и истории, без
наименее явное сотрудничество человеческого расчета, Санкт-Петербург с его
великолепие и необъятность — это трофей, возведенный русскими в свою власть
еще впереди; надежда, порождающая такие усилия, кажется мне возвышенной! Не с
в храме иудеев есть вера народа в свою судьбу, вырванная из
земля нечто более чудесное, чем Санкт-Петербург.И что это делает
Наследие, сделанное человеком своей амбициозной стране, поистине достойно восхищения, так это то, что оно
был принят историей (267-68).
Ссылка на Храм в Иерусалиме особенно уместна в свете Сиона.
мотив в средневековой русской культуре и архитектуре, а также в творчестве Достоевского. собственную последующую работу. Тем не менее, более своеобразный аспект предыдущего отрывка заключается в том, что
отзыв о Петербурге как городе, готовящемся к истории и
принято ею. В этой схеме есть два уровня истории: универсальный
история сложившейся цивилизации и культуры, история России,
существующий в слабой связи с первым.
собственную последующую работу. Тем не менее, более своеобразный аспект предыдущего отрывка заключается в том, что
отзыв о Петербурге как городе, готовящемся к истории и
принято ею. В этой схеме есть два уровня истории: универсальный
история сложившейся цивилизации и культуры, история России,
существующий в слабой связи с первым.
Кюстин, как и Достоевский, видит в камнях Петербурга исторический смысл.
Комментируя неприступную форму Михайловского замка, в котором
Император Павел был убит в 1801 году, отмечает Кюстин в своем девятом письме:
в России люди молчат, камни говорят и говорят плачевным голосом. я
не удивлен, что русские боятся и пренебрегают своими старыми памятниками: это
свидетели своей истории, которую чаще всего хотели бы
забывать.(259) Между тем, в Петербурге, в сущности, не было старинных памятников:
Михайловский замок, например, был достроен менее чем за четыре десятилетия.
перед поездкой Кюстина 21 . Более того, из последующих частей рассказа Кюстина становится ясно,
повествование, особенно в Москве, что действительно многое уцелело от
далекое, бурное архитектурное прошлое.
Во всем рассказе Кюстина конкретное значение histoire может быть только
определяется контекстом, в предыдущем случае недавняя политическая история
имперский режим.В том же смысле, без сомнения, Достоевский советовал своим читателям в
1847 г., чтобы поразмыслить над историей своего города, чья имперская архитектура, несмотря на
его недавнее происхождение можно определить как исторический текст, начатый Петром и
понятным современному жителю или приезжему. Тем не менее, Кюстин также описывает
Великое видение Петра, осязаемая форма которого получена из столь многих иностранных источников,
как агрессию, направленную против Запада (contre l’Europe une ville… pour
владыка мира). Даже в своем подходе к интеграции с Европой, даже в
свою новую столицу в западном стиле Россия потенциально враждебна, чужда и
отдельный.
Разветвления мысли Кюстина достигнут наибольшей сложности
только когда он добирается до Москвы и начинает продолжительное, часто преднамеренное
противоречиво, диалог о судьбах русских особенно интерпретируется в
архитектура Кремля и другие памятники. Как это ни парадоксально, это Кюстин,
не Достоевский, который читает средневековую русскую архитектуру, как Гюго читал эту
Парижа пятнадцатого века. Впрочем, это тема для другой статьи.
Каким бы ни было окончательное увлечение Кюстина Москвой, контрапунктом Кюстина
и Достоевский в 1847 г. доказывает, что Петербург является первым в современной России
исторический город с архитектурой, раскрывающей цель и развитие
к концепции нации.Достоевский понимал, что существование России как
великая нация и, следовательно, ее самобытность, культурная, а также политическая
зависел от поворота Петра на Запад22. Это может объяснить скудное чтение
что русский писатель дал средневековой русской архитектуре, живописной и
возбуждает иностранных путешественников, таких как Кюстин, но не имеет особого значения, так что
тогда казалась судьба России.
Как это ни парадоксально, это Кюстин,
не Достоевский, который читает средневековую русскую архитектуру, как Гюго читал эту
Парижа пятнадцатого века. Впрочем, это тема для другой статьи.
Каким бы ни было окончательное увлечение Кюстина Москвой, контрапунктом Кюстина
и Достоевский в 1847 г. доказывает, что Петербург является первым в современной России
исторический город с архитектурой, раскрывающей цель и развитие
к концепции нации.Достоевский понимал, что существование России как
великая нация и, следовательно, ее самобытность, культурная, а также политическая
зависел от поворота Петра на Запад22. Это может объяснить скудное чтение
что русский писатель дал средневековой русской архитектуре, живописной и
возбуждает иностранных путешественников, таких как Кюстин, но не имеет особого значения, так что
тогда казалась судьба России.
1. Для
анализ конструкции и символики Покровского собора см.
Уильям Крафт Брумфилд, История русской архитектуры (Нью-Йорк: Кембридж
ун-тPress, 1993), стр. 122-29.
122-29.
2 Пример этого процесса секуляризация внутри самой церкви – Джеймс Кракрафт, Феофан Прокопович, Дж.Г. Гаррард, изд. Восемнадцатый век в России (Оксфорд, 1973), стр. 75-105.
3. Брамфилд, История, стр. 251-53.
4. На проекте «Адмиралтейская набережная», с. Заявление Росси см. Кочедамов В. Проект набережной у Адмиралтейства Зодчего К. И. Росси, Архитектурное наследие, 4 (1953): 111-114.
5. Для более широкого обсуждения этого процесс местного возрождения в Западной Европе, см. Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджер, ред., Изобретение традиции (Кембридж: Cambridge Univ. Press, 1983), с особой ссылкой на Прис Морган, From a Death to a View: The Охота за валлийским прошлым в период романтизма, стр. 43–100. Для примера Растущая русская литература по этой теме, особенно в том, что касается архитектуру см. Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. (Москва, 1986), с. 7-18.
6. Алексей Мартынов, Реч2 об
архитектуре в России до XVIII века, говоренная учеником первого класса
Алексеем Мартыновым, в Отчете Московского Дворцового Архитектурного
училище за 1836 и 1837 годы и речи, говоренные на акте оного (Москва,
1838), с.1-12.
Алексей Мартынов, Реч2 об
архитектуре в России до XVIII века, говоренная учеником первого класса
Алексеем Мартыновым, в Отчете Московского Дворцового Архитектурного
училище за 1836 и 1837 годы и речи, говоренные на акте оного (Москва,
1838), с.1-12.
7. Художественная газета, 1838, 12:393-94. См. также Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX. века (Москва, 1978), с. 92.
8. Художественная газета, 1840, 3:17. Хотя статья и не подписана, она могла быть написана Нестором Кукольником, редактор газеты, который часто комментировал архитектуру. См. А. Л. Пунин, Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990, с. 17.
9 Для теоретического и исторического рассмотрение этих событий в историографии девятнадцатого века см. Хайден Уайт, Метаистория: историческое воображение в девятнадцатом веке Европа (Балтимор, 1973).
10 Связь между архитектурой
и более широкий контекст литературной критики и научного позитивизма в России
в течение девятнадцатого века исследуется в Е. И. Кириченко, Проблемы
национального стиля в архитектуре России 70-х гг. XIX в., Архитектурное
наследство, 25 (1976): 135-37; и там же, Проблемы стиля и жанра в русской
Архитектура второй шефверти XIX в., Архитектура СССР, 1983, № 34, с.
112-15. Более широкий анализ литературных аспектов отношения появляется у Э.Борисова А. А., Некоторые особенности восприятия городской среды и русской
литература второй половины XIX в., в Г.Ю. Стернин, изд., Типология русского.
реализация второй половины XIX века. М., 1979. С. 252-85. На английском см.
Уильям Крафт Брумфилд, Истоки модернизма в русской архитектуре
(Беркли, 1991), стр. xix-xxii; 1-46.
И. Кириченко, Проблемы
национального стиля в архитектуре России 70-х гг. XIX в., Архитектурное
наследство, 25 (1976): 135-37; и там же, Проблемы стиля и жанра в русской
Архитектура второй шефверти XIX в., Архитектура СССР, 1983, № 34, с.
112-15. Более широкий анализ литературных аспектов отношения появляется у Э.Борисова А. А., Некоторые особенности восприятия городской среды и русской
литература второй половины XIX в., в Г.Ю. Стернин, изд., Типология русского.
реализация второй половины XIX века. М., 1979. С. 252-85. На английском см.
Уильям Крафт Брумфилд, Истоки модернизма в русской архитектуре
(Беркли, 1991), стр. xix-xxii; 1-46.
11 Виктор Гюго, Нотр-Дам де Пари (Париж: Gallimard, 1975), с. 8. Ссылки на страницы для последующих цитат из этого издания указаны в скобках.Английский перевод сделан автором.
12 Попытка определить соединение
между зданием и текстом, архитектурой и словесным языком, от античности до
настоящее, это Джон Онианс, Архитектура, Метафора и Разум,
История архитектуры, 35 (1992): 192-207. Хотя в статье нет
зависимости от творчества Гюго, он включает в себя ряд примеров из античного
культуры, подобные культурам в главе Ceci tuera cela.
Хотя в статье нет
зависимости от творчества Гюго, он включает в себя ряд примеров из античного
культуры, подобные культурам в главе Ceci tuera cela.
13 Об интересе Хьюго к архитектура как визуальная запись и потенциальный текст, см. Филипп Хамон, Экспозиции: Литература и архитектура во Франции девятнадцатого века, перевод Кати Сэнсон-Франк и Лизы Магуайр (Беркли, 1992), стр.7, 53-55.
14 Прием Гюго в России проанализировано в М. П. Алексеев, В. Джуго и его русские знаки, Лит-ератумое наследство, 31-32 (19): 777-915. Достоевский написал предисловие к первому полный русский перевод Нотр-Дама 1862 г. См. Полное собрание. сочинений в тридцати томах, том. 20 (Л., 1980), с. 272-78.
15 Гоголь Н.В. Обь архитектура нынешнего времени, в Собрание сочинений в шести томах, т. 1, с. 6. (Москва, 1959), с.51. Последующие ссылки на этот источник даются в скобках в текст.
16 Т. А. Славина, Исследователи
русской архитектуры. Л., 1983. С. 42-44.
Л., 1983. С. 42-44.
17 Первый том Русской Старина появилась в 1848 г., последняя (№ 6) появилась в 1860 г. После этого Мартынов и Снегирев продолжали сотрудничать в подобных изданиях до конца 1880-е годы. См. Славина, Исследователи, с. 70.
18 Петербургская летопись, в Ф. Достоевский М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. 18 (Ленинград, 1978), с. 23.Последующие ссылки на этот источник даны в скобки в тексте.
19 Достоевский, вероятно, имеет в виду
вступительный отрывок восьмого письма Кюстина, в котором он представляет свой первоначальный
впечатления от Петербурга. Подобные взгляды представлены в описании
дворцы и здания центральных площадей в одиннадцатом письме. Достоевский
вероятно, знал бы второе, исправленное и дополненное издание
Кюстина, появившейся в 1843 году и быстро контрабандой ввезенной в Россию.Видеть
Достоевский, Полное собрание, 18:226n24; также П. В. Анненков, Литературные
воспоминаний. М., 1960. С. 256-57. Реакция Виссариона Белинского,
Александра Герцена и Достоевского к творчеству Кюстина анализируется у Е. И. Кийко,
Белинский и Достоевский о книге Кюстина ‘Россия в 1839, Г. М. Фридлендер,
изд., Достоевский. Материалы и исследования. 1 (Ленинград, 1974), с.
189-99.
М., 1960. С. 256-57. Реакция Виссариона Белинского,
Александра Герцена и Достоевского к творчеству Кюстина анализируется у Е. И. Кийко,
Белинский и Достоевский о книге Кюстина ‘Россия в 1839, Г. М. Фридлендер,
изд., Достоевский. Материалы и исследования. 1 (Ленинград, 1974), с.
189-99.
20 See Le Marquis de Custine, La Russie en 1839, второе издание (Париж, 1843), 1: 225-228; 344-49.Последующий ссылки на этот источник даны в скобках.
21 О проектировании и строительстве Михайловский замок см. В. К. Шуйский, Винченцо Бренна (Ленинград, 1986), стр. 120-64.
22 Для комментариев по разработке этой темы в более позднем творчестве Достоевского см. Брумфилд, Запад и Россия: Концепты неполноценности в «Отрочестве в русскости» Достоевского: исследования Идентичность нации, изд. Роберт Белкнап (Анн-Арбор, 1990), стр. 144-53.
Путешествие по России: Ораниенбаум
Изысканный Китайский дворец в Ораниенбауме, Россия, является одним из немногих имперских памятников в пригороде Санкт-Петербурга, переживших 872-дневную блокаду Ленинграда (с сентября 1941 г. по январь 1944 г.) с относительно небольшими повреждениями.
по январь 1944 г.) с относительно небольшими повреждениями.
Ораниенбаум был основан в начале 18 века сподвижником Петра Великого Александром Меншиковым и достиг своего апогея при Екатерине Великой, которая в 1762 году поручила Антонио Ринальди спроектировать свою личную дачу в Ораниенбаумском парке. Искусно продуманная натуралистическая обстановка дворца включает в себя пруд и беседку в дубовой роще. Одноэтажная резиденция, хотя и небольшая по имперским российским меркам, является шедевром, относящимся как к стилю рококо, так и к неоклассике.Впоследствии он был назван Китайским дворцом за богатое внутреннее убранство в китайском стиле.
Художники и декораторы, преимущественно итальянские и французские, а также русские, участвовавшие в оформлении интерьеров, были мастерами декоративно-прикладного искусства середины XVIII в. в Петербурге. Декоративная программа включает в себя потолочные росписи Джованни Баттисты Тьеполо и других венецианских художников, настенные и потолочные росписи темперой Стефано Торелли и изысканные паркетные рисунки самого Ринальди. Особого внимания заслуживают мраморные барельефы Марии-Анны Колло, которая была помощницей Этьена-Мориса Фальконе в скульптуре другого заказа Екатерины: Медный всадник конной статуи Петра Великого на Сенатской площади Санкт-Петербурга.
Особого внимания заслуживают мраморные барельефы Марии-Анны Колло, которая была помощницей Этьена-Мориса Фальконе в скульптуре другого заказа Екатерины: Медный всадник конной статуи Петра Великого на Сенатской площади Санкт-Петербурга.
Этот замечательный дворец, который сейчас является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, уцелел вопреки всему и позволяет современным посетителям ощутить величие русской архитектуры 18-го века. Представленные ниже виды дворцового ансамбля Ораниенбаума взяты из коллекции почти 149 000 цифровых изображений, негативов и фотографий России, подаренных отделу коллекций изображений ученым и фотографом Уильямом Крафтом Брумфилдом.
Нажмите на слайд выше, чтобы просмотреть увеличенное изображение и подробное описание (всего 29 изображений)
Откройте для себя прелести русской жизни XIX века в Пермском крае
Пермь.Дом Токарева. 23 августа 1999 г.
Уильям Брамфилд Город Пермь, крупный промышленный и административный центр, расположенный прямо на европейской стороне северного Урала, простирается на много миль вдоль высокого восточного берега реки Камы. Летом 1909 года русский фотограф и химик Сергей Прокудин-Горский посетил город в рамках первой из трех экспедиций на Уральские горы. Он снимал виды, начиная от красивой природы и заканчивая крупными фабриками.
Летом 1909 года русский фотограф и химик Сергей Прокудин-Горский посетил город в рамках первой из трех экспедиций на Уральские горы. Он снимал виды, начиная от красивой природы и заканчивая крупными фабриками.
Дом Токарева.Главный фасад, оконная деталь. 23 августа 1999 г.
Уильям БрамфилдОн также взял свою камеру на штативе на холмы к востоку от города, откуда он снял панорамные виды на центральный район, которые дают представление о его городских кварталах. Одной из ярких черт панорам Прокудина-Горского является преобладание деревянных домов. На самом деле, большинство жилищ в провинциальных городах лесной сердцевины России строилось из дерева даже в ХХ 90–183–м 90–184-м веках.Построенные из бревен на кирпичном фундаменте, дома в городах обычно обшивали дощатым сайдингом с декоративными деталями.
Пермь. Панорамный вид на запад с Городских холмов. Справа: Торговая (ныне Советская) улица с Никольской церковью; св. Петропавловская улица с деревянными домами слева. В овраге: бревенчатые амбары и сараи у реки Егошика. Лето 1909
В овраге: бревенчатые амбары и сараи у реки Егошика. Лето 1909
Мой первый визит в Пермский край произошел через девять десятилетий после Прокудина-Горского, летом 1999 года.Последующие поездки в 2014 и 2017 годах выявили город, отмеченный новым строительством.
От медеплавильного завода до электростанцииДеревянный дом на кирпичном первом этаже, ул. Монастырская, 73. Бревенчатый дом с дощатым сайдингом и декоративными оконными рамами. 22 августа 1999 г.
Уильям Брамфилд Поселение Пермь возникло в начале 18 го века как часть похода Петра Великого по освоению рудных месторождений Уральских гор.Это сырье обеспечивало надежные источники основных металлов промышленного качества, необходимых прежде всего для армии. Благодаря близлежащим источникам медной руды, густым лесам и обильным запасам воды участок возле села Егошиха считался идеальным для крупного медеплавильного завода. Строительство главного Егошихинского завода началось 4 мая 1723 года, что и считается датой основания Перми. Название «Пермь», которым в средневековый период обозначалась большая территория в Уральских горах, было официально принято в 1781 году после повеления Екатерины Великой, превратившей поселение в административный центр Урала.
Строительство главного Егошихинского завода началось 4 мая 1723 года, что и считается датой основания Перми. Название «Пермь», которым в средневековый период обозначалась большая территория в Уральских горах, было официально принято в 1781 году после повеления Екатерины Великой, превратившей поселение в административный центр Урала.
Деревянный дом XIX века (сруб с дощатым сайдингом) на углу ул. Пушкина и Горького. 15 июня 2014 г.
Уильям Брамфилд Благодаря своему выгодному расположению в бассейне реки Волги, Пермь в 19 -м -м веке превратилась в центр транспортировки соли и других полезных ископаемых, а также металлических руд и продукции металлургических заводов по всему западному Уралу. . Рост Перми на рубеже 20 901 83 901 84 века отразился в видах Прокудина-Горского на центральный город с его извергающимися трубами.Несмотря на радикальные изменения, произошедшие за столетие после его визита, несколько зданий, запечатленных на его фотографиях, сохранились до наших дней.
Деревянный дом XIX века (сруб с дощатой обшивкой на оштукатуренном кирпичном цокольном этаже) на углу ул. Островского и Ленина. Украшен стрит-артом. 15 июня 2014 г.
Уильям БрамфилдОднако большая часть деревянных домов, видимых на панорамах Прокудина-Горского, исчезла под давлением градостроительства, роста цен на землю и сложности сохранения деревянного материала.К счастью, мне удалось задокументировать отдельные примеры деревянных домов в центре города, некоторые из которых украшены праздничными декоративными элементами, такими как резные наличники окон ( наличники ), характерные для конца 19 и начала 20 го. вв.
Пермь. Вид на запад с городских холмов. Деревянные дома различных размеров и конструкций. Крайний слева: Покровская (ныне улица Ленина) с церковью Рождества Богородицы. Лето 1909
Сергей Прокудин-Горский Один из наиболее хорошо сохранившихся образцов — дом на ул. Пермской, 67, состоящий из основного сруба на кирпичном цоколе.В 1883 году владелица Александра Токарева подала прошение о расширении строения и перестройке передней части в богато украшенной манере, что соответствовало интересу русских к традиционным народным («народным») стилям во второй половине XIX века.
Пермской, 67, состоящий из основного сруба на кирпичном цоколе.В 1883 году владелица Александра Токарева подала прошение о расширении строения и перестройке передней части в богато украшенной манере, что соответствовало интересу русских к традиционным народным («народным») стилям во второй половине XIX века.
Деревянный дом XIX в., ул. Монастырская, 26. Бревенчатый сруб с дощатой обшивкой. Частый ремонт улицы затеняет кирпичный цокольный этаж. 23 августа 1999 г.
Уильям БрамфилдИз-за искусной резьбы и фрезеровки по дереву дом Токаревой получил название «теремок» («теремок-башня») — термин, применявшийся к аналогичным по декору строениям в Подмосковье.В документах 1911 года указано, что дом принадлежал Клавдии Токаревой.
В 1985 году «теремок» Токаревой был реконструирован под небольшой магазин. Сейчас он охраняется как зарегистрированная достопримечательность. Другие деревянные дома, которые я сфотографировал, скорее всего, исчезнут, если уже не исчезли.
Деревянный дом, ул. Монастырская, 26. Окно с декоративной окантовкой. 23 августа 1999 г.
Уильям БрамфилдСреди захватывающих видов Перми Прокудина-Горского есть окраинная деревня, известная как Разгуляй, название, которое можно вольно перевести как «расслабиться» или «пустить хорошие времена» и часто ассоциировалось с кабаками.(В Москве был Разгуляйский район, названный в честь народного трактира.)
Деревянный дом, св. Петропавловская улица. Бревенчатый дом с декоративной окантовкой. 23 августа 1999 г.
Уильям БрамфилдКогда в начале 19 го века Пермь получила надлежащий градостроительный план, Разгуляйский район был исключен и таким образом сохранил захваченный Прокудиным-Горским вид благоустроенного беспорядка. Повсюду здесь мы видим деревянные дома, окруженные амбарами и сараями.
Следует подчеркнуть, что деревянные дома в русских городах были связаны с деревенской жизнью. Хотя большая часть этой среды также исчезла, Перми повезло, что поблизости есть музей под открытым небом, известный как Хохловка (произносится ХО-хловка), названный в честь живописной деревни неподалеку от небольшой реки Хохловки. Парк Хохловка, расположенный менее чем в часе езды к северу от Перми, является одним из тех особых путешествий в прошлое региона.
Хотя большая часть этой среды также исчезла, Перми повезло, что поблизости есть музей под открытым небом, известный как Хохловка (произносится ХО-хловка), названный в честь живописной деревни неподалеку от небольшой реки Хохловки. Парк Хохловка, расположенный менее чем в часе езды к северу от Перми, является одним из тех особых путешествий в прошлое региона.
Пермь. Вид на северо-восток с городских холмов. Разгуляйский район с деревянными домами. На заднем плане: кладбище Егошика. Лето 1909
Сергей Прокудин-ГорскийАрхитектурные защитники и ученые начали проектировать парк в 1969 году, а с разрешения Министерства культуры в 1971 году областные власти выделили красивый холмистый участок площадью около 40 га, спускающийся к западному берегу Камского водохранилища.Хохловский парк открыт для посещения в 1980 году.
Хохловка. Бревенчатая церковь Рождества Богородицы (1694 г.), первоначально в деревне Тохтарево. 22 августа 1999 г.
Уильям Брамфилд Просторный природный ландшафт состоит из скоплений бревенчатых построек, привезенных из разных уголков Пермской области. В их числе две церкви и колокольня, бревенчатые дома (два из которых с отреставрированными интерьерами), амбары, сельская пожарная часть и ветряная мельница с неповрежденным интерьером.Есть также две бревенчатые церкви, первоначально построенные на рубеже 18 веков.
В их числе две церкви и колокольня, бревенчатые дома (два из которых с отреставрированными интерьерами), амбары, сельская пожарная часть и ветряная мельница с неповрежденным интерьером.Есть также две бревенчатые церкви, первоначально построенные на рубеже 18 веков.
Бревенчатые дома в Хохловке отражают скромные размеры, характерные для этого региона. Примером может служить усадьба В. И. Игошева из села Грибаны. Расположенный на реке Телес (южный приток Камы), Грибаны были слишком малы, чтобы иметь собственную церковь, но плодородные речные земли обеспечивали достаточно безопасное существование крестьян-земледельцев в середине XIX века, когда этот дом ( изба ) построен.
Хохловка. Бревенчатый дом, построенный в конце 19 века крестьянином Иваном Игошевым в деревне Грибани. 22 августа 1999 г.
Уильям Брамфилд В плане вытянутой избы Игошева два жилых помещения, в центре с тамбуром для надземного входа. Стены из рубленых сосновых бревен с нижним рядом из крупных бревен, уложенных на цоколь из полевого камня. Плотно изолированная дощатая крыша выходит далеко за пределы стен, чтобы защитить конструкцию от сильных снегопадов и дождливого лета.На окнах деревянные ставни. Главный элемент ярко обставленного интерьера – кирпичная печь.
Плотно изолированная дощатая крыша выходит далеко за пределы стен, чтобы защитить конструкцию от сильных снегопадов и дождливого лета.На окнах деревянные ставни. Главный элемент ярко обставленного интерьера – кирпичная печь.
Теремок Токарева в Перми намного больше, но его можно рассматривать как ностальгическое отражение традиционного дизайна, характерного для Хохловского парка. Это среда, которая была бы очень знакома Прокудину-Горскому.
Бревенчатый дом, построенный Иваном Игошевым в деревне Грибани. Интерьер, главная комната. 22 августа 1999 г.
Уильям Брамфилд В начале 20 века русский фотограф Сергей Прокудин-Горский разработал сложный процесс цветной фотографии.Между 1903 и 1916 годами он путешествовал по Российской империи и сделал более 2000 фотографий в процессе, включавших три экспозиции на стеклянной пластине. В августе 1918 года он покинул Россию и в конце концов переселился во Францию, где воссоединился с большой частью своей коллекции стеклянных негативов, а также с 13 альбомами контактных отпечатков. После его смерти в Париже в 1944 году его наследники продали коллекцию Библиотеке Конгресса. В начале 21 века Библиотека оцифровала коллекцию Прокудина-Горского и сделала ее доступной для широкой публики.На нескольких российских сайтах теперь есть версии сборника. В 1986 году историк архитектуры и фотограф Уильям Брумфилд организовал первую выставку фотографий Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса. За период работы в России, начиная с 1970 года, Брамфилд сфотографировал большинство мест, которые посещал Прокудин-Горский. В этой серии статей взгляды Прокудина-Горского на архитектурные памятники сопоставляются с фотографиями, сделанными Брумфилдом десятилетия спустя.
После его смерти в Париже в 1944 году его наследники продали коллекцию Библиотеке Конгресса. В начале 21 века Библиотека оцифровала коллекцию Прокудина-Горского и сделала ее доступной для широкой публики.На нескольких российских сайтах теперь есть версии сборника. В 1986 году историк архитектуры и фотограф Уильям Брумфилд организовал первую выставку фотографий Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса. За период работы в России, начиная с 1970 года, Брамфилд сфотографировал большинство мест, которые посещал Прокудин-Горский. В этой серии статей взгляды Прокудина-Горского на архитектурные памятники сопоставляются с фотографиями, сделанными Брумфилдом десятилетия спустя.
При использовании какого-либо контента Russia Beyond, частично или полностью, всегда указывайте активную гиперссылку на исходный материал.
Россия, Архитектура | Encyclopedia.com
РОССИЯ, АРХИТЕКТУРА В. Строительство в старой России в основном велось из горизонтальных бревен из деревьев, в изобилии встречавшихся в лесных зонах, где проживало большинство русских. Планы этажей бревенчатых построек обычно представляли собой комбинации квадратных или прямоугольных ячеек, будь то дома, дворцы, крепостные башни или церкви. В церковной архитектуре плотники воспроизводили два основных плана, унаследованных от византийских (восточно-римских) христианских каменных церквей: вытянутый с востока на запад план алтаря, нефа и притвора или ориентированный по центру план квадрата или восьмиугольника из бревен, иногда с пристройки вокруг центрального нефа.Несколько музеев под открытым небом
традиционное деревянное зодчество утвердилось в России, в том числе в Суздале, Новгороде, Костроме, Кижах, Архангельске, на Байкале.
Планы этажей бревенчатых построек обычно представляли собой комбинации квадратных или прямоугольных ячеек, будь то дома, дворцы, крепостные башни или церкви. В церковной архитектуре плотники воспроизводили два основных плана, унаследованных от византийских (восточно-римских) христианских каменных церквей: вытянутый с востока на запад план алтаря, нефа и притвора или ориентированный по центру план квадрата или восьмиугольника из бревен, иногда с пристройки вокруг центрального нефа.Несколько музеев под открытым небом
традиционное деревянное зодчество утвердилось в России, в том числе в Суздале, Новгороде, Костроме, Кижах, Архангельске, на Байкале.
Деревянная и каменная архитектура во многом влияли друг на друга. В деревянных бревенчатых церквях, например, изгиб каменной апсиды имитируется полувосьмиугольником из укороченных бревен. «Этажность» некоторых каменных церквей (например, церковь Покрова в Филях, 1690-е гг., Москва) скопирована с бревенчатых церквей, увенчанных ярусами отступающих бревенчатых восьмиугольников (например, деревянная Преображенская церковь, XVIII в. , Музей деревянного зодчества, Суздаль).Особое распространение в деревенском деревянном церковном зодчестве имела шатровая надстройка, обычно с восемью скатами, отходящими от восьмиугольного барабана. Барабан в свою очередь помещался на одно или несколько квадратных или восьмиугольных оснований (например, деревянная Успенская церковь из села Курицко, 1595 г., Новгородский музей-заповедник). Имитация каменной кладки — кирпичная церковь Вознесения в Коломенском, 1532 г., Москва.
, Музей деревянного зодчества, Суздаль).Особое распространение в деревенском деревянном церковном зодчестве имела шатровая надстройка, обычно с восемью скатами, отходящими от восьмиугольного барабана. Барабан в свою очередь помещался на одно или несколько квадратных или восьмиугольных оснований (например, деревянная Успенская церковь из села Курицко, 1595 г., Новгородский музей-заповедник). Имитация каменной кладки — кирпичная церковь Вознесения в Коломенском, 1532 г., Москва.
Собор Василия Блаженного (XVI-XVII вв.) на Красной площади в Москве представляет собой своего рода энциклопедическое сочетание элементов деревянного и каменного зодчества.Его центральная часовня, например, имитирует бревенчатую башню-шатер, увенчанную луковичным куполом. Русский купол в форме луковицы был функциональным по замыслу — для защиты от дождя и предотвращения скопления снега, — а также символичен; его форма была уподоблена пламени свечи веры, достигающему неба. Среди влияний каменной кладки у собора Василия Блаженного есть внешний орнамент, заимствованный со стен и церквей соседнего Кремля, построенного итальянцами.
Крупнейшим строительным проектом Москвы конца XV — начала XVI веков была реконструкция Кремля — центральной цитадели города.Из-за отсутствия опыта и навыков у местных строителей для этой задачи были приглашены архитекторы из северной Италии. Итальянцы спроектировали и построили нынешние стены Кремля, облицованные красным кирпичом, соборы Успения Пресвятой Богородицы и Михаила Архангела, Грановитую палату, Большую Ивановскую колокольню и прилегающую к ней Успенскую звонницу. Наименее итальянским по внешнему виду этих построек является Успенский собор (1470-е годы) Аристотеля Рудольфа Фиораванти, инженера, который скопировал — по указанию — кубическую массу, увенчанную пятью куполами Успенского собора XII века во Владимире.Что наиболее важно, Фиораванти и его коллеги познакомили русских строителей с лучшими технологиями строительства из кирпича и раствора, что сделало возможным беспрецедентный строительный бум по всей России в шестнадцатом и семнадцатом веках.
Стоя на Соборной площади в Кремле, можно выделить архитектурные элементы, отражающие политический и территориальный подъем Московской Руси: архитектурные композиции и орнаменты из регионов, входящих в состав Московии (Псков, Новгород, Владимир), из деревенского деревянного зодчества, из Италия. В свою очередь, учитывая престиж крупных столичных построек, кремлевские постройки стали образцом для застройки всей России. Например, Успенский собор стал неоднократно повторяемым образцом для последующих крупных соборов (Новодевичий монастырь в Москве, Вологде, Костроме, Троице-Сергиев монастырь под Москвой, Ростов Великий и др.).
В свою очередь, учитывая престиж крупных столичных построек, кремлевские постройки стали образцом для застройки всей России. Например, Успенский собор стал неоднократно повторяемым образцом для последующих крупных соборов (Новодевичий монастырь в Москве, Вологде, Костроме, Троице-Сергиев монастырь под Москвой, Ростов Великий и др.).
БАРОККО И ЗАПАДНОЕ ВЛИЯНИЕ
Если московская архитектура достигла синтеза региональных, деревенских и итальянских влияний в пятнадцатом и шестнадцатом веках, то этот синтез был разрушен в семнадцатом веке, когда западноевропейские влияния проникли в Россию из Украины, части который был включен в состав Московии в середине семнадцатого века.Так называемый московский барочный декоративный стиль характерен для многих церквей и дворцов второй половины XVII в. , эти структуры мало демонстрируют баланс и симметрию стиля барокко Западной Европы. Несколько областных центров создали свои архитектурные школы, особенно Ярославль, расположенный к северо-востоку от Москвы, чьи церкви XVII века венчают продолговатые стройные барабаны под куполами.
Строительство и проектирование в Московии было типично семейным делом: строитель передавал свои навыки сыновьям (хотя ни один из них не мог быть грамотным), и проектные планы не могли быть составлены до начала строительства. С основанием и застройкой Петербурга, начиная с начала XVIII века, старое московское строительное ремесло стало новой «наукой» архитектуры, обучались в специальных новых школах, где воспитанников обучали иностранным языкам, математике и классической архитектуре. .Учителя и учебники сначала прибыли из Западной Европы, но вскоре за ними последовали недавно обученные русские мастера и русские переводы. Была учреждена Строительная канцелярия, которая руководила обучением и строительством сначала в Санкт-Петербурге, а затем, в восемнадцатом веке, в городах по всей стране.
Начиная с Петра I Великого (годы правления 1682–1725) западноевропейские архитектурные тенденции определяли общий стиль «высокой» архитектуры — почти все значительные государственные и частные постройки, а личный вкус правителя определял современный стиль. Любимый архитектор Петра, Доменико Трезини, использовал сдержанное барокко Северной Европы, например, в своем 400-метровом здании Двенадцати коллегий, 1722–1742 гг., Санкт-Петербург. Само существование такого большого правительственного здания, подобного которому в Москве в то время не существовало, свидетельствует о новых и крупных инвестициях правительства в разветвленную административную систему. Спланированный план Санкт-Петербурга с его четкой сеткой и рисунком улиц, правильной высотой зданий и уклонами, широкими проспектами, огромными площадями и общественными пространствами напоминает другой город восемнадцатого века, спланированный с нуля и предназначенный для того, чтобы впечатлять горожан и иностранцы одинаково: Вашингтон, Д.C.
Любимый архитектор Петра, Доменико Трезини, использовал сдержанное барокко Северной Европы, например, в своем 400-метровом здании Двенадцати коллегий, 1722–1742 гг., Санкт-Петербург. Само существование такого большого правительственного здания, подобного которому в Москве в то время не существовало, свидетельствует о новых и крупных инвестициях правительства в разветвленную административную систему. Спланированный план Санкт-Петербурга с его четкой сеткой и рисунком улиц, правильной высотой зданий и уклонами, широкими проспектами, огромными площадями и общественными пространствами напоминает другой город восемнадцатого века, спланированный с нуля и предназначенный для того, чтобы впечатлять горожан и иностранцы одинаково: Вашингтон, Д.C.
Основными архитектурными стилями после Петра были причудливое барокко или рококо в царствование Елизаветы Петровны (годы правления 1741–1762), примером которых являются работы Бартоломео Франческо Растрелли (Зима
Дворец, Смольный монастырь, Екатерининский дворец в Царском Селе), а также классический или неоклассический в царствование Екатерины II Великой (годы правления 1762–1796), например Эрмитажный театр Джакомо Кваренги, Большой дворец в Павловске Чарльза Камерона и другие и Мраморный дворец Антонио Ринальди.
«Петербургизация» архитектуры других городов, в частности, рассредоточение классических или неоклассических норм, набирала обороты в царствование Екатерины и продолжала оказывать влияние на русскую архитектуру в течение всего имперского периода. Ранним образцом классической архитектуры в Москве является дом Пашкова, приписываемый В. И. Баженову (1780-е годы), ныне часть Российской государственной библиотеки, бывшей Ленинской библиотеки.
См. также Архитектура ; Барокко ; Екатерина II (Россия) ; Градостроительство ; Москва ; Неоклассицизм ; Петр I (Россия) .
БИБЛИОГРАФИЯ
Брамфилд, Уильям Крафт. История русской архитектуры. Кембридж, Великобритания, 1993 г.
Кракрафт, Джеймс. Петровский переворот в русской архитектуре. Чикаго и Лондон, 1988 г.
Гамильтон, Джордж Херд. Искусство и архитектура России. 3-е изд. Нью-Йорк, 1983.
Джек Коллманн
.
 Здесь было построено множество дворцов с фасадами и парадными сооружениями, возведены дворцово-парковые ансамбли в Петергофе.
Здесь было построено множество дворцов с фасадами и парадными сооружениями, возведены дворцово-парковые ансамбли в Петергофе.